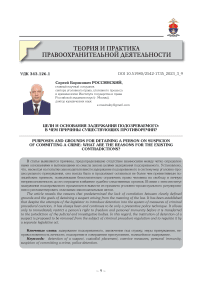Цели и основания задержания подозреваемого: в чем причины существующих противоречий?
Автор: Россинский С.Б.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (52), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются причины, предопределившие отсутствие взаимосвязи между четко определенными основаниями и вытекающими из смысла закона целями задержания подозреваемого. Установлено, что, несмотря на попытки законодателя ввести задержание подозреваемого в систему мер уголовно-процессуального принуждения, оно всегда было и продолжает оставаться не более чем превентивным полицейским приемом, позволяющим безотлагательно ограничить право человека на свободу и личную неприкосновенность до его передачи в ве́дение судебно-следственных органов. В связи с этим институт задержания подозреваемого предлагается вывести из предмета уголовно-процессуального регулирования и регламентировать отдельным законодательным актом.
Задержание подозреваемого, заключение под стражу, меры принуждения, неприкосновенность личности, подозрение в совершении преступления, полицейское задержание
Короткий адрес: https://sciup.org/140301956
IDR: 140301956 | УДК: 343.126.1 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_3_9
Текст научной статьи Цели и основания задержания подозреваемого: в чем причины существующих противоречий?
Р ассмотрение проблем, входящих в предмет настоящего исследования, хотелось бы начать с очередной констатации ранее выявленных особенностей, присущих генезису национальной системы уголовной юстиции. Так, автором статьи уже неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день ввиду ряда факторов и исторических катаклизмов ХХ в. в России сформировалась особая, самобытная, в определенной степени даже уникальная модель досудебного производства, обусловленная бессистемным переплетением разных, в том числе плохо совместимых элементов, присущих другим моделям досудебного производства (расследования), что выражается в интеграции функций «полиции» и функции «юстиции», в частности в наделении представителей органов исполнительной власти полицейского типа юрисдикционной правосубъектностью, позволяющей выносить имеющие юридические последствия правоприменительные акты, а также собирать и депонировать для предстоящего судебного заседания полноценные доказательства, равные по юридической силе доказательствам, полученным самим судом. Одновременно обращалось внимание, что этим объясняются многие извечные вопросы и противоречия досудебного производства, уже не первый год стоящие перед уголовно-процессуальной доктриной, оказывающие деструктивное влияние на качество закона и вызывающие серьезные ошибки и затруднения в правоприменительной практике [подр.: 14, с. 64]. В частности, этим можно объяснить целый ряд проблем, свойственных задержанию подозреваемого как одной из предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством мер принудительного воздействия на поведение участников уголовного судопроизводства. Некоторым из них и посвящается настоящая статья.
Вообще задержание по подозрению в совершении преступления – весьма распространенная в мировой практике мера принуждения, состоящая в кратковременном ограничении свободы человека и сопровождаемая его помещением в специальное учреждение тюремного типа, функционально предназначенное для содержания арестованных. Ввиду понятных любому специалисту причин, обусловленных естественной очередностью действий с предрасположенными к нахождению под стражей лицами – вначале превентивно задержать такого человека и только затем приступить к решению вопроса о необходимости его более длительной изоляции от общества, подобный правоограничительный прием известен с глубокой древности и присущ работе правоохранительных органов любого государства независимо от существующих правовых традиций, способов досудебного расследования, степени правовой защищенности населения и прочих факторов. Именно поэтому различные аспекты теории, законодательного регулирования задержания подозреваемого и соответствующей правоприменительной практики уже достаточно давно привлекают внимание специалистов, становясь предметом многочисленных обсуждений и вызывая оживленные споры и дискуссии. А в последние годы указанные проблемы стали еще более актуальными и вошли в новую фазу развития благодаря изменению самих концептуальных подходов к обеспечению конституционных прав и свобод личности, особенно личности, вовлеченной в сферу деятельности правоохранительных органов.
Вместе с тем, невзирая на подобную популярность проблематики задержания, далеко не все связанные с ним вопросы получили доктринальное освещение и удостоились должного разбора в научных публикациях. В частности, такого внимания почему-то оказались недостойны основания задержания подозреваемого, то есть правовые гипотезы, предопределяющие объективную потребность в применении данной правоограничительной меры к человеку в связи с вероятной перспективой его привлечения к уголовной ответственности. Ученые-процессуалисты всегда воспринимали данные основания как само собой разумеющийся правовой постулат, поэтому практически никогда не подвергали их сомнению, а лишь занимались их толкованием [1, с. 81-85; 2, с. 41-49; 13, с. 18-21; 17, с. 9-11 и др.] либо вообще огра- ничивались банальным переписыванием соответствующих положений закона [4, с. 51-52; 11, с. 31 и др.]. Другими словами, хорошо известный каждому выпускнику юридического вуза набор оснований, позволяющих органам дознания или предварительного следствия задержать человека по подозрению в совершении преступления: если лицо застигнуто…, если на него укажут…, если при нем будут обнаружены… и т.д. – фактически превратился в некую аксиоматичную данность, то есть в совершенно очевидную, не вызывающую ни малейшей доли сомнения, не требующую опровержения правовую константу.
Но так ли это на самом деле? Так ли хорошо гармонизированы основания задержания с его сущностью и подлинным предназначением? Представляется, что указанные вопросы неразрывно связаны с рядом еще недостаточно исследованных научных проблем.
Действующий уголовно-процессуальный закон Российской Федерации предусматривает четыре основания задержания подозреваемого, три из которых предполагают четкие юридические факты (ч. 1 ст. 91 УПК РФ), а четвертое – гораздо большую свободу усмотрения органа дознания, дознавателя или следователя, ограниченную лишь дополнительными правовыми условиями, позволяющими прибегнуть к данной правоохранительной мере (ч. 2 ст. 91 УПК РФ). Весьма схожие нормативные конструкции были присущи и более ранним кодифицированным национальным источникам уголовно-процессуального права; их же можно встретить и в уголовно-процессуальных кодексах целого ряда других, в первую очередь постсоветских, государств.
Очевидно, что каждое из указанных оснований должно находиться в зависимости от достижения целей задержания подозреваемого – в противном случае применение данной правоограничительной меры становится бесцельным, превращаясь в ничем не обусловленное ограничение свободы и личной неприкосновенности соответствующего субъекта. Но вытекает ли подобная зависимость из содержания уголовно-процессуального закона?
Уместно вспомнить, что основная цель задержания лица по подозрению в совершении преступления состоит в кратковременном обеспечении его пребывания в условиях доступности для проведения первоначальных процессуальных действий, позволяющих предварительно подтвердить или опровергнуть версию об его причастности к совершению некого преступления как необходимого условия применения меры пресечения, в первую очередь заключения под стражу либо домашнего ареста. Не менее важные, хотя и явно производные цели задержания подозреваемого сводятся к пресечению возможных попыток уничтожения или искажения потенциальных доказательств (незаконного воздействия на свидетелей, ликвидации либо фальсификации предметов или документов и т.п.), а также к предупреждению совершения новых преступлений. Эта позиция уже неоднократно высказывалась автором настоящей статьи [15, с. 73 и др.]; схожие позиции с определенной степенью вариативности выражались и многими другими учеными, посвятившими публикации проблемам уголовно-процессуального принуждения в целом и задержания подозреваемого в частности [7, с. 26; 8, с. 21; 9, с. 140; 16, с. 258 и др.].
В любом случае задержание подозреваемого преследует примерно те же самые цели, ради которых позднее избирается мера пресечения арестантского характера. И в этом нет ничего странного. Ведь по своей сути задержание – не что иное, как упрощенная, рассчитанная на непродолжительное применение форма изоляции человека от общества, обеспечивающая возможность его оперативного помещения в учреждение тюремного типа во внесудебном порядке и, следовательно, подлежащая использованию лишь в ситуациях, сопряженных с предварительным намерением следователя (дознавателя) в дальнейшем заключить подозреваемого (обвиняемого) под стажу или домашний арест.
Нетрудно предположить, что подобное сходство или даже тождество целей задержания подозреваемого и мер уголовно-процессуального пресечения должно предопределять единые, по крайней мере имеющие весьма высокую степень аналогии, основания для использования этих правоограничительных механизмов – правовые гипотезы, вызывающие потребность временного ограничения права личности на свободу и неприкосновенность. Вместе с тем законодатель подходит к решению данного вопроса несколько по-другому. Ожидаемая зависимость оснований от целей наблюдается только в части процессуальной регламентации мер пресечения – в соответствии со ст. 97 УПК РФ таковыми, как известно, считаются факты, объективно свидетельствующие о возможности и (или) намерениях лица скрыться, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам судопроизводства и т.д. Тогда как предусмотренные ст. 91 УПК РФ основания задержания подозреваемого вряд ли можно признать находящимися в зависимости от его целей – если между ними и существует какая-либо косвенная и весьма спорная взаимосвязь, то она явно не предполагает причинно-следственного характера, не обуславливает четкую производность одного от другого. Ведь ни у дознавателя, ни у следователя, ни у кого другого не может быть никакой уверенности, что если человек, например, будет застигнут при совершении преступления, то он обязательно захочет скрываться или уклоняться от явки в органы предварительного расследования, если потерпевшие либо очевидцы укажут на него как на совершившего преступление, то он непременно станет продолжать преступную деятельность, если при нем обнаружатся явные следы преступления, то он безусловно вознамерится препятствовать дальнейшему производству по уголовному делу т.д.
Таким образом, в данном сегменте уголовно-процессуального регулирования наблюдается существенный изъян, выраженный в явной несогласованности, в отсутствии должной правовой гармонизации установленных ст. 91 УПК РФ оснований и как бы «вытекающих» из смысла закона целей задержания лица по подозрению в совершении преступления. И в связи с этим формально предусмотренные законом положения о за- держании подозреваемого попадают в ту самую нормативную ловушку, о которой говорилось выше, – становятся бесцельными, устанавливают не понятно чем обусловленный принудительный механизм, выраженный в существенном ограничении свободы и неприкосновенности личности.
Причем указанные проблемы имеют значение не только для теории уголовного процесса – они приводят к множеству ошибок и злоупотреблений в реальной правоприменительной практике органов дознания и предварительного следствия. Так, в прежних публикациях автора настоящей статьи уже приводился пример, связанный с выявлением сотрудниками московской милиции попытки незаконного сбыта на площади Курского вокзала нескольких изготовленных кустарным способом слитков серебра, отмечалось, что возбудивший уголовной дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ дежурный следователь задержал подозреваемого по сугубо формальным основаниям – ввиду его захвата при совершении преступления и обнаружения у него указанных слитков драгоценного металла. Одновременно указывалось, что в реальности никакой потребности в нахождении лица в изоляторе временного содержания не существовало, в связи с чем позднее было решено освободить его под «честное слово», которое он достойно сдержал.
И это далеко не единичный случай – современная следственная практика просто изобилует подобными ситуациями. Прекрасно осознавая бессмысленность дальнейших арестов многих попадающих в сферу уголовного преследования лиц, в частности понимая бесперспективность направления в суды соответствующих ходатайств, сотрудники органов дознания и предварительного следствия нередко задерживают подозреваемых, преследуя явно незаконные цели, например не желая возлагать на себя дополнительную ответственность, подвергаться нареканиям не вполне компетентного руководства, а то и вовсе рассчитывая использовать последующее освобождение задержанного как повод для коррупционного обогащения. К тому же установленные законом правила задержания формально позволяют прибегать к возможности применения этой меры по подавляющему большинству уголовных дел. В частности, положения гл. 12 УПК РФ не обязывают распознавать фактическую целесообразность задержания подозреваемого подобно тому, как это определено в ст. 99 УПК РФ для избрания меры пресечения; вытекающая из смысла ст. 92 УПК РФ прикладная технология оформления протокола задержания фактически лишает сторону защиты перспективы обжалования данного процессуального акта и т.д.
Замысел настоящей статьи не предполагает очередного (какого по счету?) рассмотрения системных недостатков, присущих кадровому обеспечению уголовной юстиции, в том числе выраженных в непрофессионализме многих должностных лиц органов предварительного расследования, в отсутствии у них должного правосознания, правопонимания, ответственности, склонности некоторых из них к коррупционному поведению и т.д., тем более что наблюдаемые в этом сегменте правоприменительной практики ошибки и злоупотребления все-таки обусловлены совершенно иной причиной – изначально неверным законодательным подходом к пониманию оснований задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Представляется, что, будучи определены как основания задержания подозреваемого, положения ст. 91 УПК РФ включают совершенно иные правовые гипотезы – предусматривают юридические факты, позволяющие выдвинуть версию о криминальном характере действий (бездействия) человека, попавшего в зону внимания правоохранительных органов. Другими словами, эти положения содержат не столько основания для задержания, сколько основания для подозрения данного лица в подготовке преступления, покушении на преступление либо совершении оконченного преступления и, таким образом, предопределяют потребность в осуществлении в отношении него персонифицированного уголовного преследования. Например, к какому предпо- ложению подталкивают сведения о том, что некий человек был застигнут в момент совершения преступления? Какое предположение напрашивается при указании потерпевшим или очевидцами на данного человека как на совершившего преступление или обнаружении на нем, на его одежде, при нем либо в его жилище соответствующих следов? Ответ на данные вопросы представляется очевидным – предположение о причастности этого лица к соответствующему преступлению, требующее либо последующего подтверждения совокупностью доказательств, либо опровержения. При этом, справедливо писал И.М. Гуткин, указанные обстоятельства вовсе не предопределяют потребности в неотложном помещении такого человека в изолятор временного содержания, равно как и последующее обвинение не обуславливает необходимости его обязательного заключения под стражу [5, с. 32].
В принципе подобное «открытие» не обладает абсолютной новизной – ввиду всей очевидности близкие позиции уже высказывались в ряде публикаций. Правда они остались практически незамеченными, не вызвали никакой реакции в научном сообщества и вполне ожидаемо не получили никакой поддержки со стороны законодателя [3, с. 138; 6, с. 147; 10, с. 52].
Но учеными никогда не предпринимались попытки выявления подлинных причин, повлиявших на возникновение ошибочного законодательного подхода к пониманию оснований задержания лица по подозрению в совершении преступления. Между тем представляется, что надлежащее осознание подобных причин – это необходимая и первоочередная задача в преодолении возникших в данном сегменте правового регулирования проблем, без разрешения которых ни разумное совершенствование уголовно-процессуального закона, ни оптимизация соответствующей правоприменительной практики не возымеют никаких приемлемых перспектив. К тому же существующие основания задержания подозреваемого не изобретены ни советскими, ни постсоветскими правотворцами.
Будучи унаследованными еще от средневекового института «in flagranti» (действия полиции при задержании человека с поличным) и положений «Наполеоновского» кодекса уголовного следствия 1808 г. [12, с. 530], они имеют гораздо более длинную, уходящую корнями далеко в прошлое историю, в связи с чем предполагают высокую степень выработанности и применяются во множестве государств. И поэтому нет ничего странного в том, что содержание ст. 91 УПК РФ очень напоминает норму действующего Уголовно-процессуального кодекса Французской республики 1958 г., входящую в раздел, регламентирующий порядок дознания по очевидным преступлениям. Не удивительно и то, что практически тождественные основания для задержания были свойственны дореволюционному и советскому законодательству, а в настоящее время, как отмечалось выше, сохранились в подавляющем большинстве уголовно-процессуальных кодексов постсоветских государств.
Так почему же настолько выработанные и хорошо апробированные в мировой практике положения о задержании лица по подозрению в совершении преступления вдруг оказались не вполне пригодными для российской системы уголовной юстиции? Что привело к наблюдаемому в настоящее время правовому изъяну, оказывающему достаточно деструктивное влияние на деятельность органов предварительного расследования?
Думается, что ответить на данные вопросы не так уж и сложно! Дело в том, что, несмотря на все попытки советского и постсоветского законодателя ввести задержание подозреваемого в систему мер уголовно-процессуального принуждения, превратить его в полноценную форму реализации юрисдикционных полномочий, оно всегда было и продолжает оставаться не более чем превентивным полицейским приемом, позволяющим безотлагательно ограничить право человека на свободу и личную неприкосновенность до его передачи в ведение судебно-следственных органов. Именно на основе такого понимания задержания подозреваемого и формировались положения уголовно-процессуального права различных государства, устанавливающие основания для применения данной меры; оно же предопределяло и соответствующие нормы Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. и первых советских уголовно-процессуальных кодексов.
Ведь в отличие от наделенных юрисдикционной правосубъектностью участников уголовного судопроизводства (суда, следственного судьи, следователя и т.д.) работа полиции либо иных правоохранительных органов полицейского типа не связана с вынесением полноценных правоприменительных решений и не вызывает столь серьезных, влияющих на положение участвующих лиц юридических последствий. Полицейские служащие не обременены предписанием квалифицировать содеянное, не обязаны полно, всесторонне и объективно устанавливать все имеющие значение для уголовного дела обстоятельства – от них требуется лишь оперативно отреагировать на сообщение о преступлении, обеспечить сохранность предрасположенных к утрате или изменению следов, задержать подозреваемого (!) либо провести упрощенное полицейское расследование в форме дознания. И, таким образом, выдвигаемое ими полицейское подозрение еще не является подозрением в привычном для современной уголовно-процессуальной доктрины понимании, то есть сопряженной с введением лица в новое юридическое состояние – в статус подозреваемого – формой уголовно-процессуального реагирования следователя (дознавателя) на обстоятельства, свидетельствующие о возможной причастности этого лица к преступлению. Полицейское подозрение предполагает какое-то более бытовое, универсальное, не имеющее четкого процессуального смысла понимание, поэтому в реальной практической деятельности обычно сливается с основаниями для задержания соответствующего человека в некую единую общность. Так, с одной стороны, сотрудникам правоохранительных органов надлежит осознавать возможную причастность лица к противоправному деянию, то есть подозревать его в совершении данного деяния, а с другой – обеспечивать его превентивное ограничение свободы для обеспечения производства ряда первоначальных процессуальных действий.
Однако, как уже отмечалось в «преамбуле» к настоящей статье, ввиду ряда факторов и исторических катаклизмов ХХ в. в России постепенно сформировалась самобытная национальная модель досудебного производства, выраженная в интеграции функций «полиции» и функции «юстиции», в частности в наделении представителей органов исполнительной власти полицейского типа юрисдикционной правосубъектностью, позволяющей выносить имеющие юридические последствия правоприменительные акты. Именно этим и объясняются изъяны положений уголовно-процессуального законодательства, определяющих основания для задержания подозреваемого.
По всей вероятности, разработчики УПК РСФСР 1960 г., а вслед за ними и авторы действующего УПК РФ просто не уделили должного внимания указанным обстоятельствам, сохранив для задержания подозреваемого прежний, хорошо апробированный, но при этом предназначенный для правоохранительных органов полицейского типа и явно не рассчитанный для использования в следственной практике правовой режим. Более того, складывается впечатление, что, формулируя основания задержания подозреваемого, законодатель вообще окончательно запутался в указанных вопросах, поскольку в качестве одного из таковых предусмотрел «иные данные, дающие основания подозревать (!) лицо в совершении преступления» (ч. 2 ст. 122 УПК РСФСР 1960 г., ч. 2 ст. 91 УПК РФ).
В завершение стоит отметить, что допустимый объем настоящей статьи заставляет автора ограничиться сказанным и не вносить каких-либо сиюминутных предложений, направленных на совершенствование российского законодательства в целях устранения выявленных нормативно-правовых изъянов и, как следствие, оптимизации правоприменительной практики. В этой связи целесообразно сформулировать лишь самый общий вывод: в условиях сохранения существующей системы механизмов выявления, раскрытия и расследования преступлений, с одной стороны, основанной на жестком разграничении процессуальных и непроцессуальных (полицейских) полномочий, а с другой – предполагающей наделение органов исполнительной власти полицейского типа юрисдикционной правосубъектностью, институт задержания подозреваемого в целом и основания задержания в частности не должны входить в предмет уголовно-процессуального регулирования и регламентироваться УПК РФ . И, таким образом, в настоящее время представляется целесообразным разработать и ввести в действие отдельный законодательный акт, устанавливающий основания, условия правомерности и порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Список литературы Цели и основания задержания подозреваемого: в чем причины существующих противоречий?
- Авдеев, В.Н. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве России / В.Н. Авдеев, Ф.А. Богацкий. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2006. – 160 с.
- Березин, М.Н. Задержание в советском уголовном судопроизводстве / М.Н. Березин, И.М. Гуткин, А.А. Чувилев. –М.: Академия МВД СССР, 1975. – 93 с.
- Волошкина, Н.Н. Обеспечение конституционного права на неприкосновенность частной жизни при производстве предварительного следствия: дис. … канд. юрид. наук / Н.Н. Волошкина. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2000. – 199 с.
- Григорьев, В.Н. Задержание подозреваемого / В.Н. Григорьев. – М.: ЮрИнфоР, 1999. – 541 с.
- Гуткин, И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания / И.М. Гуткин. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – 89 с.
- Зайцев, О.А. Подозреваемый в уголовном процессе / О.А. Зайцев, П.А. Смирнов. – М.: Экзамен, 2005. – 320 с.
- Зайцева, Л.Л. Задержание в уголовном процессе Республики Беларусь / Л.Л. Зайцева, А.Г. Пурс. – Минск: Харвест, 2011. – 224 с.
- Клюков, Е.М. Мера процессуального принуждения / Е.М. Клюков. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1974. – 108 с.
- Коврига, З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З.Ф. Коврига. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1975. – 175 с.
- Козловский, Н.А. Подозрение в советском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. Наук / Н.А. Козловский. – Свердловск: Свердловский юридический институт имени Р.А. Руденко, 1989. – 166 с.
- Копылова, О.П. Меры принуждения в уголовном про-цессе / О.П. Копылова. – Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного технического университета, 2011. – 120 с.
- Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. – 1278 с.
- Ретюнских, И.А. Об основаниях задержания лица, подозреваемого в совершении преступления / И.А. Ретюнских // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2016. – N 1. – С. 18-21.
- Россинский, C.Б. Российская система досудебного производства как синтез различных типов уголовного процесса / С.Б. Россинский // Государство и право. – 2023. – N 4. – С. 58-65.
- Россинский, С.Б. Цели задержания подозреваемого в общем механизме ограничения права человека на свободу и личную неприкосновенность / С.Б. Россинский // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – N 10. – С. 71-79.
- Смолькова, И.В. Подозреваемый и его процессуальное положение в российском уголовном судопроизводстве / И.В. Смолькова. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 456 с.
- Соловьев, А.Д. Задержание подозреваемого и примене-ние мер пресечения / А.Д. Соловьев, И.А. Гельфанд ; отв. ред. И.Д. Бондаренко. – Киев: Министерство охраны общественного порядка УССР, 1964. – 36 с.