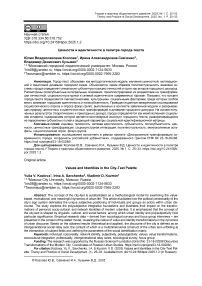Ценности и идентичности в палитре города-текста
Автор: Козлова Ю.В., Савченко И.А., Кузьмин В.Д.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Город-текст обоснован как методологическая модель изучения ценностной, мотивационной и смысловой динамики городской жизни. Объясняется, каким образом политекстуальность знаковой системы города определяет уникальную субъектную позицию личностей и групп как акторов городского дискурса. Рассмотрены полисубъектные интегральные основания, проиллюстрировано их воздействие на трансформации личностной, социально-культурной и сетевой идентичности современных горожан. Показано, что концепт города-текста определяется лингвистическими, культурными, социальными факторами, среди которых особое место занимают городская идентичность и полисубъектность. Приводятся данные эмпирических исследований (социологического опроса и опроса фокус-групп), выполненных в контексте заявленной модели и раскрывающих природу ценностных и идентичностных трансформаций в динамике городского дискурса. На основе полученных результатов (теоретических и прикладных) дискурс города определяется как межпоколенная социальная эстафета, содержанием которой является многомерный конструкт городского текста, разворачивающийся на пересечении субъектных полей и задающий параметры социальной идентификационной матрицы.
Индивид, телесность, сетевая идентичность, субъектность, полисубъектность, ценности, ценностные трансформации, социокультурная интеграция, политекстуальность, межпоколенные эстафеты, социологический опрос, фокус-группа
Короткий адрес: https://sciup.org/149147638
IDR: 149147638 | УДК: 316.334.56:316.752 | DOI: 10.24158/tipor.2025.1.2
Текст научной статьи Ценности и идентичности в палитре города-текста
Город представляет собой знаковое явление, лишь часть которого предметна и может быть зафиксирована в фото- и кинохронике, доступна картографированию и спутниковой съемке. В значительной мере визуальная феноменология города – это личные и общие для его жителей воспоминания, образы лучшего будущего, опасения и смелые планы. В символическом аспекте город подобен словесному тексту, прочесть, понять и дополнить который можно по-разному.
Известна история о том, как психолог-когнитивист Жан Пиаже привез бушмена на берег моря, ожидая удивления или радости от человека, впервые увидевшего столько воды. Но ничего подобного не произошло, африканец буквально «не видел» моря, поскольку в его опыте не было смыслов и значений, способов действий, которые позволяли бы «прочесть» этот образ в реальности и связать с другими элементами (Rogoff, 2003).
В сходной ситуации оказывается каждый из нас, когда посещает древние города-памятники Египта, Мексики или Перу или высокотехнологичные умные города и кварталы. Нам нужен переводчик, гид, проводник, чтобы в предметной визуальности реконструировать знаки и смыслы и найти им эквиваленты в нынешней жизни. Образ города возникает в сознании как единство личного и общего, внутреннего и внешнего (Pool, Loughlin, 2022). При необходимости свернутые, скрытые элементы городских объектов могут быть воссозданы в сознании субъекта (индивидуальном или групповом) изнутри наружу, по схеме, плану путем экстериоризации, как это происходит при буквальном восстановлении города после разрушения.
Чтобы прочесть текст, недостаточно знать буквы и складывать их в слова, нужно быть способным восстановить скрытые за ними образы, иметь необходимый опыт. Образы города, его площади, памятники, дороги, людские потоки кажутся однообразной повседневностью, где изменения происходят нечасто. Тем не менее внешние объекты раскрывают стоящие за ними значения и способы действий лишь во взаимодействии. Люди живут в домах, учатся в университетах, празднуют на площади: естественный и рукотворный ландшафты города развиваются в материальной плоскости, в реальности индивидуального и социального сознания (Bovaird, Löffler, 2018) . Текст города представляет собой продукт и средство социокультурной интеграции , объективирующее культурные смыслы и значения в повседневность.
Подобно тому как текст на бумаге или экране монитора существует и воспринимается во взаимосвязи со множеством других текстов, городской текст предполагает свои прочтения в контексте определенной исторической эпохи и, как правило, в соответствии с принципом историзма: более ранние, базовые слои, зоны являются «охраняемыми», неприкосновенными.
Изучение города в качестве особого текста предполагает выбор одного из двух подходов, первый из которых – литературоведческий. Здесь город понимается как личность, персонаж, представленный в литературе и несущий коды осмысления жизни, мира, устройства общества и ориентиров личности (Анциферов, 2014). Второй подход – семиотический, здесь город, его среда рассматриваются как символический текст, непрерывный и генерирующий смыслы и сами коды (Лотман, 2000).
Конструкт идеального города вкупе с картографическим отражением представляет собой интерпретацию на тему космоса и хаоса, идеального и реального общественного устройства и восходит к проблемам поиска абсолютной истины и цивилизационного развития (Лотман, 2000: 261–262, 266). Этот конструкт также делает акцент на особом значении городской символики в культуре: город как пространство символизирует общество, является для жителей центром и моделью вселенной, а город как система наименований символизирует принадлежность и системы связей между объектами (Лотман, 2000: 320–324).
Небольшая часть «читателей» города находится внутри городского текста и гораздо большая – за пределами семиотического комплекса города. При этом сам текст города остается непрерывным, как борхесовская «Книга песка», он развивается из прошлого к будущему в обыденной повседневности и из будущего в прошлое – в ретроспективном, рефлексивном прочтении. Он включает управленческие, хозяйственные, культурно-образовательные, социальные составляющие, объединяет личный и групповой уровни с уровнем городских сообществ. Более того, современный человек неизбежно замкнут в сфере языка и для решения своих проблем исследует достоверность языка как основного способа познания и достоверность конструируемых с помощью языка текстов: в этом направлении развивались структурно-семиотические подходы К. Леви-Стросса, М. Фуко, У. Эко.
Объектная сфера политекста города представлена функциональными материально-пространственными объектами и потоками, восприятие которых определяется прагматическими целями и общей когнитивной направленностью воспринимающего субъекта. Субъектная сфера политекста города кодирует градостроительную, топонимическую, функциональную преемственность с одной стороны и эволюцию городских сообществ, социально-культурную динамику с другой. Таким образом, город представляет собой естественную и многомерную визуализацию историко-культурного и инфраструктурного развития, в которой объединены личный, групповой и общественный контексты. Именно контекстуальное звучание социально значимого образца поведения, мотивации, способа действия делает его механизмом социальной памяти (социальной эстафетой – по М.А. Розову).
Особое значение в дискурсе городского текста имеют знаковые коммуникации, формирующие и транслирующие смыслы, в том числе самовоспроизведение городского кода в исторической преемственности как базовый механизм социальной памяти. Поэтому интерпретативная сфера политекста города формирует целостную модель мира, в его контексте происходят социально значимые события, разворачивается поток повседневности, осуществляются социальные практики, моделируются общественные пространства. Особое значение в настоящее время приобретают формы эстафетной передачи ценностно-смысловых ориентиров между поколениями. В городском пространстве именно на это направлены символические празднования и конкурсные мероприятия с привлечением представителей разных поколений семьи, социально-культурные мероприятия и волонтерские программы, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны и локальным юбилейным датам. Новое содержательное наполнение приобретают традиционные формы организации соседского взаимодействия, объединяющие поколения на уровне семей и домохозяйств по месту жительства на основе участия в принятии решений по административно-хозяйственным вопросам и благоустройству территорий. Межпоколенные связи реализованы также в формах промышленного районирования по кластерному принципу. Непосредственно на предприятии социальное одобрение получают династии, реализуется наставничество, эти формы символически являются базовыми по отношению к коллективной, командной и проектной организации труда. Производственные династии отражаются в топонимике соответствующих мест города, представлены в памятных аллеях и скверах, упоминания о них звучат на праздновании Дня города и Дня народного единства также в контексте городского пространства. Таким образом осуществляется интеграция повседневности и символической, ценностной реальности, достигаются пространственно-временная преемственность и межпоколенная эстафетность.
В концепте города-текста ценности определены как знаковые понятия, формирующиеся и изменяющиеся в его пределах. Город представляется как естественная форма хранения и передачи культурного опыта во времени и пространстве. В интеллектуально-коммуникационной системе координат городского дискурса ценности предстают как конфигурации, в которых интегрируются смыслы действий, явлений, артефакты и способы передачи этих смыслов. Такое понимание определило проблемное поле организованного разработчиками темы семинара «Ценностные трансформации в динамике городского дискурса» (МГПУ, 26 июня 2024 г.)1. Ценностная система дискурса города состоит из знаемых (декларируемых) и значимых (регулятивных) ценностей, коннотаций символов и артефактов в развитии городского дискурса. Ценности зависят от степени влияния на дискурсивные трансформации и от источника их формирования: инициативы властных и административных структур, научно-образовательных учреждений, средств массовой информации, общественных организаций или активистов.
В контексте изучаемой проблематики нами был проведен анкетный опрос « Ценностные трансформации в динамике городского дискурса », входивший в качестве модульного в многопрофильный опрос «Дискурс современного города». Сбор эмпирических данных проходил с февраля по сентябрь 2024 г. среди горожан (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Иркутск и Иркутская область). В опросе приняли участие 3 152 респондента (n = 3 152): 56 % – женщины, 44 % – мужчины. Возраст респондентов – от 18 до 80 лет (20 % – 18–25 лет, 22 – 26–35 лет, 20 – 36–45 лет, 22 – 46–55 лет, 12 – 56– 65 лет, 4 % – 66–80 лет). Большая часть опрошенных имеют высшее образование (56 %).
Выяснилось, что значительная часть горожан (43 %) в качестве ценностей воспринимают удобную инфраструктуру и комфортные условия жизни, несколько меньшая часть – зоны отдыха (парки и природные зоны) (33 %). Эти ценности мы можем описывать как регулятивные. Среди «знаемых» (декларируемых, общественно признанных) ценностей наиболее важными для городского развития стали устойчивое развитие и экологичность (31 %), социальная справедливость и равенство (24), инновации и технологический прогресс (22 %). При этом 50 % опрошенных выступают за сохранение исторического ландшафта в пространстве города.
Необходимо отметить, что представители молодежи, среднего и старшего поколения единодушно отдали приоритет сохранению природной и культурно-исторической среды. Это свидетельствует о том, что витальные жизненные ценности являются связующими и их реализация в городском пространстве – действенный консолидирующий механизм.
Следующими по значимости респонденты назвали инфраструктурные элементы, так как именно транспортная и административная системы реализуют ценность городского пространства как целостного, комфортного для решения жизненных задач и безопасного. Относительно остальных параметров мнения разделились. Если представители среднего возраста отдают преимущество инновационным технологиям в городе (функциональным ценностям, связанным с достижениями, статусом, стилем жизни), то старшая возрастная группа больше ориентирована на социальную справедливость и равенство.
В настоящее время приходится говорить о необходимости введения в научный оборот понятия «город-политекст», обусловленного текстовой гетерогенностью и политекстовой природой основных элементов городской семиосферы : 1) материально-объектной; 2) субъектной; 3) социально-дискурсивной.
Политекст города включает материально-объектную, социально-субъектную, интерпретационную сферы, существует как динамическая визуализация социальных процессов и связей. В объектной его сфере представлены когнитивные априорные эталоны, которые обеспечивают воспринимающему субъекту восприятие социальной реальности, ее познание, интерпретацию, прагматическую направленность. В субъектной сфере городского политекста кодируются разнообразие и преемственность эволюционных форм социальности и видов перцептивной направленности. Город здесь выступает как полихронный текст о социуме и возможностях самоопределения в нем индивидуального и множественного субъекта. Интерпретативная сфера городского текста продуцирует и транслирует смыслы, текстуализирует опыт субъекта и делает систему «политекст – субъект» открытой. Именно поэтому политекст города является устойчивой, развивающейся, универсальной цивилизационной формой, представленной во множестве социально-культурных вариаций.
В контекстах города-политекста формируются субъектные взаимосвязи, определяются социальные статусы, реализуется функциональный потенциал научных идей и управленческих новаций. Исследование когнитивной и коммуникативной природы городского политекста позволит полнее охарактеризовать субъектные взаимосвязи между личностью, социальной общностью и широким социумом в прагматическом, ретроспективном и прогностическом аспектах.
Смысловыми единицами вербального текста являются слова и словосочетания, в то время как в тексте города объединены знаки из разных систем. Политекстуальность города определяется тем, что каждый из больших и малых городов содержит многочисленные аллюзии на схожие компоненты городской среды. В некоторых случаях заимствуется принцип планировки жилых микрорайонов, в других – городские локации (парки, проспекты, центральные площади), которые, словно ссылки, ведут к объектам других городов. Нередко – это «экспорт столичности», при котором региональные и областные центры стремятся стать похожими на столицу и копируют организацию пространства, а иногда – гиперссылки к исторической памяти в архитектуре и ландшафте. Например, сталинский ампир стал триумфальным прочтением классических стилей на материале советской символики. Или более ранний, «псевдорусский» стиль конца XIX – начала XX в. был обращен к стилизованному, ироничному и декоративному образу города, такому, каким он представлен в иллюстрациях к сказкам и театральных декорациях. Антитезой сказочного, условного, обильно декорированного города послужил лаконичный конструктивизм, где эстетическим принципом является отказ от любого декора.
Город на каждом этапе исторического развития сохраняет элементы различных периодов своего прошлого. Для жителя эти элементы складываются в его собственную историю. Аргентинский писатель Хулио Кортасар в 1963 г. придумал роман «Игра в классики», который можно читать разными способами. Автор сам предлагает несколько последовательностей, а затем вовлекает читателя в поиски «порталов» – гиперссылок чуть ли не на всю мировую литературу. Это яркий пример экспериментальной гипертекстуальности, в реальных же условиях города последовательностей и гиперссылок значительно больше. И пока в городе живут и действуют люди, происходят тысячи событий, меняется его текст. Возникают и утрачиваются «последовательности прочтения». Каждая эпоха создает новые прочтения, каждое поколение по-своему прочитывает символику и назначение городских пространств. Возникновение новых объектов (памятников, стадионов, веток метро, канатных дорог) требует переосмысления и реконцептуализации всего города.
Субъектность как основа городской идентичности поддерживается в первую очередь образными и образно-действенными средствами. Подобно тому как решение социальной дилеммы в пользу личного или общественного имеет решающие последствия для общества в целом и отдельной личности в частности, формирование субъектной позиции по оси «личность – город» является определяющим для культуры.
Концепт субъектности занимает одно из центральных мест в исследованиях города. Еще в языковой концепции В. Гумбольдта, созданной столетие назад, язык был представлен как форма миропонимания как целого народа, так и одного человека, принципиально, что выход за пределы одной языковой знаковой системы описывался как ведущий исключительно в другую языковую систему (1984: 80). Знаковая система – универсальное средство фиксации, хранения и передачи значений, и вне какой-либо знаковой системы невозможно познание, становление познающего субъекта. Присвоение городского текста не только оказывает формирующее воздействие на структуру ценностей, культурные запросы, образ и стиль жизни, но и формирует особую городскую субъектность с соответствующим типом мышления и мировосприятия.
В современных условиях в силу усложнения социальной системы и повышения динамичности составляющих ее процессов и связей идентичность со значимой социальной группой, городским сообществом, большими общностями, составляющими социум, достигается на основе общности представлений, когнитивно-интерпретационной и эмоционально-мотивационной готовности к умственным и практическим действиям. Т. е. новую социальную общность составляют, например, не только люди, живущие в одной местности, занятые одним трудом и вследствие этого имеющие сходные взгляды по важным общественным позициям, но и те, кто заинтересован в определенной информации, готов ее потреблять и создавать. Возможность поддержания практически непрерывного контакта с сетевыми сообществами стала основой для параллельного формирования сетевой цифровой социальной идентичности.
Сетевая идентичность может развиваться как продолжение и дополнение идентичности деятельностной, коммуникативной, информационной, а может вступать с ней в конфликт (Козлова, 2021). Именно текст города является основанием, отправной схемой не только самосознания личности, но и физической, телесной я-концепции, я-образа. Телесные схемы горожанина формируются как средство интеграции в полимодальную структуру городского пространства. Физическое тело встраивается в общественное пространство в повторяющихся социальных практиках, в процессе реализации социальных ролей в объектной символической сфере. При этом сохраняется рефлексивная полисубъектная преемственность, базисом которой является субъектная сфера городского политекста. Полимодальный характер города как пространства и как концепта актуализирует рефлексию, обобщенное, схематизированное, логическое отражение происходящего. Именно поэтому дискурсивное пространство города при его освоении оказывает на личный и социальный субъект мощное трансформационное воздействие, горожанина формирует городской образ жизни, более комфортный, динамичный и сложный, чем сельский. Горожанина формирует повседневная необходимость интегрироваться в сложно устроенное и многозначное общественное пространство, вступать в опосредованное ритуалами, процедурами и операциями взаимодействие с большим количеством других людей, поддерживать рефлексивную позицию и совершать личностно значимые выборы. Телесные схемы, обеспечивающие такую субъектную позицию и заданные городским дискурсом, и формируют так называемый городской образ жизни, городской уклад того или иного исторического отрезка, благодаря которому мы может судить об узнаваемых чертах внешнего вида, мимики, реакциях и особенностях поведения жителей того или иного города в ретроспективе.
В спектре изучаемых вопросов авторами было проведено исследование в фокус-группах «Идентичность современного горожанина»: пять фокус-групп в разных городах России (Москве, Нижнем Новгороде, Иркутске), общее количество участников – 37 чел. (57 % женщин, 43 % мужчин). Наибольшее количество опрошенных представляло возрастную категорию от 18 до 20 лет (69 %), а также от 21 до 25 лет (31 %). Результаты опроса показали, что 40 % респондентов идентифицируют себя с городом своего проживания, 51 – считают важной роль города в формировании самовосприятия, для 26 – именно город предоставляет свободу и возможность самовыражения, для 42 % – образования и карьерного роста.
В организации фокусированного группового интервью применялся нейросетевой анализ аудио и видео, благодаря которому стало возможным анализировать психовегетативные реакции участников фокус-групп на обсуждаемые вопросы1. Оказалось, что вопросы самообретения и идентификации имеют особую значимость для горожан, в особенности для людей средней возрастной категории. У части респондентов были выявлены средневысокие психовегетативные реакции в процессе ответов, генезис которых опосредован как ситуацией, так и содержанием обсуждения. Кроме того, технологии алгоритмов, апробированные в данном эмпирическом исследовании, позволят в будущем создавать и оптимизировать интерактивные нейросетевые опросники по проблематике исследования.
Политекст города отвечает запросам личности и социальной общности, он доступен для интерпретации в культурном, профессиональном, общественном, управленческом контекстах. Формы применения содержаний городского политекста для обозначения статуса социальных субъектов разнообразны, и их исследование позволяет понять природу коммуникаций между городом и индивидом, городом и группой, городом и обществом.
Растущий, развивающийся, усложняющийся город как цивилизационная форма общежития обусловливает использование термина «полисубъектность» применительно к городскому тексту. Данный термин описывает прямое взаимодействие различных субъектов между собой, характеризующихся целостной многомерностью. Полисубъектность в поле городского дискурса отражает многообразие форм функционирования городского социума .
В городе, а тем более мегаполисе или агломерации, разворачивается сложная инфраструктура. И на ее основе строится взаимодействие социальных групп, реальных групп участия, отдельных людей. Город сложен, для понимания его процессов недостаточно физически воспринимать, необходимо понимать их интерпретации.
Ключевым и первоочередным для выявления системных признаков городского текста, установления его внутренних детерминант является анализ вторичных и эмпирических данных, направленный на определение содержания понятий «городская субъектность», «субъектный подход». Город как административный, социокультурный ландшафтный объект схематизируется в рамках каждой из научных отраслей.
Иногда системная природа города сознательно нарушается. Тогда город утрачивает поли-текстуальный характер и в итоге теряет импульс к жизни и развитию. В качестве примера можно привести так называемые города-проекты (южнокорейский Сонгдо, американский Арконзанти и др.), которые не оправдали замыслы своих проектировщиков и медленно «угасают». Дело в том, что созданный по единому проекту «монологический город» является семиотически однородным, линейной моделью мира, он выражает смыслы и ценности даже не эпохи, а ее фрагмента – краткого периода, в течение которого он был спроектирован, и в результате отражает какую-то одну ценность (например, ценность рационального преобразования окружающего мира, прогресса и научного подхода). Полилогичные города, совмещая в своем предметно-символическом пространстве идеи и ценности разного уровня, разных эпох, побуждают жителей стать субъектами моделирования контекста и созидательной активности: как в социальной коммуникации, так и в познании мира через дискурс города. И этот контекст, заложенный в общую структуру города, динамичен, побуждает к диалогу, выявлению скрытых причинно-следственных связей, а в итоге – ценностным трансформациям , отражающим тренды общественного развития.
Для приезжего подчас город являет собой ящик Пандоры, таящий опасности именно вследствие несформированной полисубъектности. Излюбленный мотив классической русской литературы «приезжий из столицы в уездном городе» представлен вереницей ярких образов от «Ревизора» и «Евгения Онегина» до героев А.П. Чехова и В.А. Соллогуба. Образы провинциалов и провинциалок, проходящих ценностную трансформацию в большом городе, вероятно, вечны, вне культуры и эпохи. Здесь мы найдем экранного ДˈАртаньяна, героев В.М. Шукшина, персонажей из фильмов «Приходите завтра», «Москва слезам не верит», а также «Небо над Берлином» В. Вендерса, «Полночь в Париже» В. Аллена, «Трудности перевода» С. Копполы.
Каждый город как новый неизвестный сюжет по-своему реализует свой визуальный язык. Для его безошибочного понимания необходима функциональная система культурных представлений, реализованных как жизненные смыслы в процессе социокультурной интеграции в систему города, участия в его общностях и опосредованно в жизни общества в целом. Здесь мы подходим к следующему обоснованию городской полисубъектности.
Визуальный текст города интерактивен. Применительно к вербальному тексту лингвисты нередко говорят, что его субъектом может быть как активный участник сообщаемого события (субъект диктума), так и рассказчик, а также слушатель (Онипенко, 2011).
Взаимодействие с текстом предполагает, что читатель сам становится частью воспринимаемого. Присутствие субъекта в городе делает прочтение этого города рефлексивным и уникальным. Городская статика, представленная в ландшафте, климате, архитектурных ансамблях, и городская динамика как система информационных, ресурсных, финансовых, транспортных потоков прочитываются каждой социальной общностью по-своему. Именно поэтому невинное решение по строительству или благоустройству может вызвать как позитивный резонанс среди самих жителей, так и протестный – среди экологов, общественников, представителей бизнеса, культуры, старшего поколения. Разница прочтения инновации может привести к многолетнему противостоянию между городскими сообществами. Все это заставляет задуматься о том, насколько группы принадлежности, те общности, где житель идентифицируется как «мы», определяют видение городского текста, его противоречий, смыслов, внутренних связей и аллюзий на другие тексты.
Художественный образ города, даже если он транслируется через фото- и видеодокументы, интерпретируется «изнутри», не будучи соотнесен с миропониманием конкретной личности или общности, текст не может быть восстановлен как совокупность представлений о нем.
Город как воспринимаемый объект – это совокупность имеющихся представлений о нем и самом объекте действительности. При этом воспринимающий субъект представлен не одним об-разом-я, образом-мы, а как минимум несколькими, в семье, трудовом коллективе, юридических, профессиональных, экономических взаимодействиях, что отражает множественность социальных ролей. Многоплановость социальных ролей – одно из выражений полисубъектности. Коммуникативное пространство города связывает материальные объекты и людей и тем самым предполагает разнообразный набор ролевых отношений индивидов.
Американский социолог Л. Вирт в своем основополагающем труде «Урбанизм как образ жизни» выделил несколько ключевых характеристик городского образа жизни: ослабление первичных межличностных отношений, преобладание вторичных формально-ролевых взаимодействий и нарастание анонимности в общении (2017).
В предметном плане городские пространства остаются неизменными, но субъект как продукт эпохи и своей социальной общности конструирует из текста лишь нужный и понятный ему набор смыслов.
Множественность социальных ролей горожанина позволяет осуществлять разные модели поведения внутри городского пространства. И когда мы пытаемся понять город, то описываем уникальные черты его жителей, особенности поведения и характера, привычки, то общее, на чем основывается сплоченность сообществ. Это некая внешняя нормативная рамка, внутри которой происходят конфликты взглядов, интересов, целей, принципов. Множественность ролей определяется многообразием социальных групп внутри города, поколенческой, экономической, миграционной динамикой и многими другими процессами. Возможности города открываются в том случае, когда субъект ставит цели, адаптируется, формирует и меняет поведенческий репертуар, когда способен рефлексировать, вставать на позицию другого, рассматривать разные точки зрения на проблему. Множественность ролей в большом городе чревата внутренними и внешними конфликтами, но именно эта опция делает социальную жизнь разнообразной и позволяет жителю города идти естественным путем через кризисы и периоды стабильности. В итоге формируется набор доступных социальных ролей, вновь и вновь достигается сплоченность в городском сообществе и обществе в целом (Савченко, 2011). Множественность социальных ролей и статусов в конкретном своем выражении доступна именно в городе, связана со спецификой деятельности его предприятий, учреждений и организаций, экономическим и геополитическим статусом, его стратегическими приоритетами (Китайгородская, Розанова, 2003).
Интерпретация знаков города, обоснование общих принципов и практических подходов в этой области имеет важнейшее значение для понимания социальных процессов, а в условиях современной урбанизированной общественной системы – и для реализации прав социальных субъектов (Urban social sustainability…, 2019: 100). Целеполагание, принятие и выбор решений, реализованные в локальных городских пространствах, преимущественно в символической форме, представляют собой осуществление принципа социальной справедливости и являются залогом взаимопонимания и согласия в обществе.
Таким образом, в городском дискурсе реализуются противоречия между социальными эстафетами и следованием правилу (Витгенштейн, 2018). Эти противоречия, впервые описанные В.Ю. Кузнецовым (2017), реализуются в алгоритмах, по которым люди, фиксируя свою активность в интеллектуально-коммуникативных координатах городского дискурса, учатся друг у друга, подражают друг другу, но эти эстафетные отношения разворачиваются на фоне следования определенным правилам. В коммуникативно-познавательной системе современного города следование правилу не подчиняется конкретной формулировке, поскольку не существует строго однозначных способов применения правила. Люди передают по эстафетам цели, ценности, способы передачи этих целей и ценностей, а также сами социальные эстафеты. Диалектический феномен дискурсивной эстафетности сводится к тому, что в рамках практического функционирования городского дискурса на уровне эстафетности каждой эстафеты в соответствии с парадоксом следования правилу постоянно передаваемые новые образцы каким-то образом соотносятся со старыми режимами функционирования дискурса. Однако при этом сами способы и инструменты следования правилу могут трансформироваться и трансмиссия этих инструментов на дискурсивном уровне приобретает форму социальной эстафеты. В эстафетной реальности городского дискурса центральное место занимают ценности и идентичности, которые формируются и трансформируются в социальных эстафетах, в их пространственном и временном измерениях.
Список литературы Ценности и идентичности в палитре города-текста
- Анциферов Н.П. Душа Петербурга. М., 2014. 400 с.
- Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. М., 2017. 109 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. Л. Добросельского. М., 2018. 160 c.
- Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 37-297.
- Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Современное городское общение: типы коммуникативных ситуаций и их жанровая реализация (на примере Москвы) // Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация / отв. ред. Л.П. Крысин. М., 2003. С. 103-126. EDN: SHXTBL