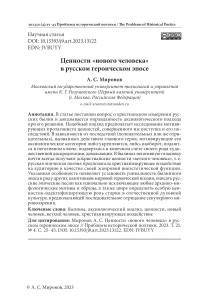Ценности «нового человека» в русском героическом эпосе
Автор: Миронов А.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье поставлен вопрос о христианском измерении русских былин и доказывается оправданность аксиологического подхода при его решении. Подобный подход предполагает исследование мотивирующих протагониста ценностей, совершенного им поступка и его последствий. В зависимости от последствий (положительных или же отрицательных), вызванных действием главного героя, мотивирующие его аксиологические категории либо укрепляются, либо, наоборот, подаются в негативном ключе, подвергаясь в конечном счете своего рода художественной дискредитации, девальвации. В былинах негативную огласовку почти всегда получают дохристианские ценности «ветхого человека», т. е. русская эпическая поэзия предполагала христианизирующее воздействие на аудиторию в качестве своей жанровой внеэстетической функции. Указанная особенность позволяет установить уникальность былинного эпоса в ряду других памятников мировой героической поэзии, описать русские эпические песни как изначально исключающие любые архаико-мифологические мотивы и образы, а также шире определить особую ценностно-идентифицирующую роль старин в отечественной духовной культуре, предполагающей последовательное отрицание секулярного мировоззрения.
Былины, аксиологический анализ, ценности, новый человек, ветхий человек, христианизирующее воздействие
Короткий адрес: https://sciup.org/147242334
IDR: 147242334 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13122
Текст научной статьи Ценности «нового человека» в русском героическом эпосе
Ай пошол тогды Илеюшка во Божью ́ Церьковь, Ай берё де он ведь книгу всё Евангельё, Он идё со книгой Илеюшка на могилочку;
Он читат-то он книгу-ту по перьвой раз, Ай прочитыват ведь книгу во второй раз, Просматривал он книгу-ту во третей раз, Да нашол-то он в книги таково слово: «Слободить де как чёловека от смерти понапрасныя». Розмышляет восударь тогды умом-разумом 1
И звестно, что в старинах действуют Спас, Богородица, ангелы и святые; в былинном мире обнаруживается «Ероса-лим», «Ердань-река», «Фавор-гора»; богатыри празднуют Пасху и Благовещение, Рождество и Петров день, почитают иконы, молятся и в храмах, и келейно, а также ставят обетные церкви. Как справедливо заметил К. С. Аксаков, «первое и главное, чтó выдается из этого мира Владимировых песен, — это Христианская Вера; она постоянно и всюду основа жизни»2.
Однако со времен славянофилов ученые крайне редко исследовали христианские ценности русского героического эпоса . В былиноведении, как будет показано ниже, десятилетиями господствует мнение, что христианские реалии — это лишь поверхностный слой, маскирующий изначальные языческие смыслы эпоса.
В XIX столетии многими исследователями былинный эпос понимался как своего рода конгломерат разновременных смыслов (см.: [Буслаев: 127], [Миллер: VI]). В советский период научная рецепция русской героической поэзии в целом ряде случаев характеризовалась повышенным вниманием именно к ее реконструируемой дохристианской семантике. Так, В. В. Иванов и В. Н. Топоров находили в былинах основания для реконструкции «основного мифа», отражающего ритуалы, связанные с культом языческого бога-громовержца [Иванов, Топоров: 59–60, 125, 166–172]. Ю. И. Юдин считал, что посредством христианских понятий и образов в былинах реализуется «идеология национального самосознания» [Юдин: 69]. В свою очередь, В. П. Аникин придерживался мнения, что «наносные» православные мотивы могут быть устранены из старин «без ущерба для художественного целого» [Аникин: 144, 149].
По мнению В. Я. Проппа и его последователей, исходные смыслы русского эпоса связаны не с христианским мировоззрением, но отражают память о магических ритуалах; при этом «вторжение в эпос церковной стихии идет в противовес общему развитию его» [Пропп: 235]. Как полагал Б. Н. Путилов, «мы вправе в эпических мотивах искать отражение <…> реальной обрядовой практики» [Путилов: 79]. Т. А. Бернштам христианские концепты относила к тому, что она называла «новообразованиями» в эпосе. Исключая из былин подобные «новообразования», исследовательница пришла, в частности, к выводу, что изначально Илья Муромец изображался в качестве змея, субъекта нечистой силы [Бернштам: 234]; змеиную природу имеет также, по ее мнению, Алеша Попович [Берн-штам: 260].
Ю. А. Новиков полагал, что многие «мотивы и образы, связанные с христианскими обрядами и обычаями, являются факультативными, напрямую не влияют на развитие сюжетного действия», несмотря на то, что «частотность их употребления весьма высока» [Новиков: 315]. По мнению ученого, «довольно часто демифологизация былин сопровождалась христианизацией текстов; языческие мотивы и образы заменялись их христианскими аналогами» [Новиков: 323].
В краткий список сюжетообразующих христианских мотивов, играющих все же «ключевую роль» и определяющих «развитие сюжетного действия и его развязку», Ю. А. Новиков относил, помимо лейтмотива защиты веры, подробно описанного еще П. Г. Богатыревым [Богатырев: 693–697], 1) паломничество с целью замолить грехи; 2) чудесное исцеление; 3) глас с неба; 4) молитву героя; 5) предсказания Богородицы и святых, а также 6) указание на принадлежность к христианской вере (маркер «своего» в противоположность «чужому») [Новиков: 312].
Между тем у христианства нет монополии на путешествия к культовым объектам, на исцеление, глас с неба и способность героя молиться. Так, Т. А. Новичкова полагала, что Василий Буслаев ездил на Святую землю грабить купцов и совершать языческие ритуалы, и даже гибель этого персонажа находила «достойной подлинного героя старинного полу-исторического эпоса» [Новичкова: 55].
Вмешательство Богородицы и святых в жизнь богатырей при желании также можно объяснить позднейшими наслоениями. Так, по мнению Т. А. Бернштам, когда певец сказывает о том, как Христос и ангелы в былине исцеляют Илью Муромца, мы имеем дело с «христианизованной заменой водной инициации» язычников [Бернштам: 234].
Чтобы понять, насколько христианский «элемент» является изначальным и сущностным в былинах, необходимо проанализировать мотивации эпических героев. Христианская мотивация фиксируется, если персонаж ориентирован на ценность Бога или страдающего человека — того, кто в конкретной ситуации оказался для него ближним.
Эти ценности должны быть более значимы для героя, чем собственная жизнь, а также личная слава и личная честь, формируемая посредством почестей и даров, которые персонаж получает «в обмен» за совершенные подвиги (к таким приношениям относятся ценный конь, чудесное оружие, доспех поверженного врага, табуны, корабли, уделы, недоступная красавица, почетное место в кругу прочих героев и, в некоторых случаях, трон).
Есть ли в былинах примеры христианской мотивации? К каким последствиям приводят героев их поступки, мотивированные ценностями «ветхого человека» (Еф. 4:22–23; Рим. 6:6; Кол. 3:9) и ценностями, включающими в себя личную славу и почести? Что происходит в былинах с тщеславцами и честолюбцами, в том числе с теми, кто мстит за личное бесславие и бесчестие?
Приступая к аксиологическому анализу былин, мы исходили из того, что герой — это тот, кто совершает поступок, указывающий на некую предельную ценность. Вместе с тем слушатель былины смысл сюжета воспринимает последовательно:
первая фаза — оценка мотивации героя, вторая фаза — оценка поступка, вызванного мотивирующей ценностью, и, наконец, финальная фаза — восприятие и осмысление последствий этого поступка. В результате слушатель пересматривает исходную мотивацию — начинает ценить мотивирующую аксиологическую категорию больше или меньше.
Анализ мотиваций эпических героев, созданных разными народами мира (за исключением русского народа), показывает, что предельной ценностью для них является: 1) нематериальная личная слава (молва) и 2) вполне материальная личная имущественная честь. Отличие личной славы от личной чести заключается в возможности удивляться совершенному поступку. Так, с точки зрения Гомера, простой доспех, сорванный с тела поверженного врага, увеличивает личную честь победителя ( τιμή ), но если это доспех уникальный, принадлежавший прославленному противнику, то такое приобретение обеспечивает своему новому владельцу не честь, но славу ( κλέος ); подобный доспех можно носить напоказ (как Геракл носит шкуру Не-мейского льва).
Англосаксонский эпический певец различает, с одной стороны, добычу как имущество , которое накапливается на «счету» личной чести ( maérð ) героя, повышая его «стоимость» в глазах окружающих, включая властителей и женщин, и, с другой стороны, добычу славную, обладание которой имеет не имущественный, но «информационный» эффект, обеспечивая славу-молву ( dóm ). Староанглийское dom , как и старосаксонское dōm , означает также «приговор», «суд»3 (ср.: dómes dæg — «судный день»4). Эпическому концепту личной славы соответствует представление о людском суде, «приговоре молвы».
Чтобы достичь этих предельных ценностей, персонажу необходимы инструментальные ценности-«энергии» — это чудесная сила (физическая, колдовская, интеллектуальная и др.), а также героический гнев, позволяющий подобную необычную си лу «активировать».
Начнем с поступков, мотивированных ценностью личной славы-молвы (нами выявлен 51 пример5).
Например, Волх Всеславович добивается славы, чтобы компенсировать бесславие — статус незаконнорожденного. «Младешенький» и глупешенький Добрыня Никитич заключает мир со Змеей, чтобы прославиться в статусе «бóльшего брата» самой Змеи. В последнем случае герой забывает о русских пленниках, томящихся в змеиных пещерах, т. е. ценность страдающего человека в данном сюжете для него не так важна, как личная слава (молва)6.
При этом нами выявлена следующая закономерность: поступок, ориентированный на ценность личной славы, в русском эпосе приводит к дурным последствиям, независимо от того, кто такой поступок совершает («свой» или «чужой» персонаж). Единственным исключением из подобного правила является Волх Всеславович.
Наоборот, поступки былинных акторов, жертвующих личной славой ради некой другой ценности, вызывают благие для них последствия.
Например, Илья Муромец не опасается личного бесславия из-за упреков в трусости. Когда Алеша Попович в гневе у всех на виду бросает в него нож во время княжьего пира, Илья ловит нож в полете и вонзает в стол, спокойно продолжая трапезу. Для персонажа языческого типа такой поступок гарантирует дурную молву, бесславие. Для русского же героя важнее сострадание к Алеше, которого богатырь великодушно прощает.
Русское эпическое сознание абсолютно последовательно, от сюжета к сюжету, подавляет доминанту личной славы в ценностном центре своих героев и, соответственно, слушателей.
В 58 эпических ситуациях (см. подробнее [Миронов: 257–258, 397–406]) акторы былин поступают, ориентируясь на ценность общей славы русского богатырства — молвы о подвигах, совершенных «во славу Божию», из любви к страдающему человеку.
Заметим, что для былинных персонажей языческого типа жалость — это безумие и своего рода непростительное малодушие, потому что любое применение героической силы должно приносить пользу: добычу или молву. С точки зрения иноземных витязей и властителей, поведение русских богатырей, совершающих подвиги из жалости, является удивительным. Это, в свою очередь, обеспечивает киевскому богатырству славу, которая удерживает иноземных властителей от завоевательных походов на Русь.
Подвиги сострадания, совершаемые с риском для жизни и бескорыстно, не могут быть трактованы как увеличивающие личную славу героя, их совершившего. Например, отправляясь в свою первую поездку в канун Пасхи, Илья Муромец ради Светлого Праздника принимает на себя заповедь не обнажать в пути саблю. Он нарушает свой обет из сострадания («жалости») к людям в осажденном городе (последние, вместо того чтобы радоваться на пасхальной службе в храме, плачут и причащаются, готовясь к скорой смерти от вражеских рук). Былина показывает высочайшую ценность сострадания подобно тому, как эта ценность утверждается в евангельском сюжете о Спасителе, позволившем взалкавшим ученикам собирать колосья в день субботний. «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:23–27) — эти слова Христа выражают суть выбора, сделанного русским эпическим героем: нарушение «мертвой» заповеди в данном случае есть важнейший содержательный элемент былины, который не может объясняться «инверсией» более раннего дохристианского сюжета, предполагавшего успешное соблюдение персонажем ритуального запрета браться за оружие.
В былинах поступки героев, совершенные с целью защитить страдающего человека, приводят к благим для самих героев последствиям. Так, Садко, рискуя прогневать Морского царя, разрывает струны на своих гуслях из жалости к тонущим в бурю корабельщикам. Этот акт сострадающего сердца приносит ему покровительство святого Николы, благодаря которому персонажу удается избежать вечного рабства в Подводном царстве.
Между тем в былинах весьма часто действующие лица предпочитают соборной славе ценности «ветхого человека». Таких случаев нами обнаружено 62 [Миронов: 258–260, 384–397]. И в 61 из них акторы переживают негативные последствия сделанного ими ценностного выбора.
Так, духовный антипод Ильи Муромца Василий Буслаев, прибыв в былинный «Еросолим» в тот момент, когда город осажден «силой неверной», не пытается защитить жителей, но занимается исполнением собственного обета. Вскоре он погибает, бесславно и бессмысленно растратив свою чудесную силу.
Былинные герои весьма часто совершают поступки, мотивированные желанием восстановить личную честь (после бесчестия) или увеличить персональный «рейтинг» чести (за счет добывания ценного имущества и материально-знаковых благ). Например, когда коварные жители Углича предлагают Кон-стантинушке Саульевичу воцариться в их городе, герой забывает о поисках отца и соглашается. Дунай Иванович намерен наказать Добрыню Никитича за ущерб, нанесенный последним его драгоценному чернобархатному шатру.
Как правило, в былинном мире поступок, мотивированный ценностью личной чести, приводит к дурным для действующего лица последствиям (64 случая из 67) [Миронов: 249–250, 388–397].
Весьма часто действующие лица былин в ситуации ценностного выбора отдают предпочтение не личной чести, но чести внешних реалий — материальных или нематериальных святынь.
Таких случаев нами обнаружено 73 [Миронов: 250–251, 406–414]. Подобный выбор приводит к благим для акторов последствиям.
Илья Муромец отказывается от чести — вознаграждения, предложенного ему освобожденными жителями Чернигова. Алеша Попович не гневается на князя Владимира за бесчестие (князь предложил ему худшее место за столом). Наоборот, этот богатырь приходит князю на помощь, вступаясь за святыню «закона Божия» — христианского брака, попранного Тугариным. Илья Муромец встает на защиту «честных вдов»,
«сироты маломоженной», цареградских нищих, которым Идолище запретил просить милостыню во имя Христа.
Ценность силы (и вообще любого таланта: «мудрости»/ колдовства, чудесной игры на гуслях, «красы-басы» и т. д.) как личного права , как возможности получить «в обмен» на природный богатырский дар почести или славу мотивирует поступки былинных действующих лиц в 52 случаях [Миронов: 260–261, 384–406]. В подавляющем большинстве из них (46 из 52) такие поступки в конечном итоге вызывают дурные для героев последствия.
Василий Буслаев, рассчитывая на свою силу, отказывается виниться в увечьях, нанесенных сверстникам; вместо этого удалец обзаводится могучей «дружинушкой» и вызывает на бой всех «мужиков новгородских». Герой уповает на собственную физическую силу (верует только в свой «черленый вяз»), поэтому решается бесчестить христианские реликвии Святой земли ради личной славы.
Зачастую успех сопутствует герою в начале сюжета, как это происходит с Буслаевым, Садко, Дунаем, Потыком, однако затем для такого «языческого» протагониста наступают дурные последствия. Так, Дунай использует свои таланты (красоту и силу), чтобы добиться брака с королевской дочерью, но его история завершается трагическим финалом — самоубийством.
Ценность силы как бремени , как харизматического дара, который необходимо бескорыстно «передаривать», мотивирует поступки былинных действующих лиц в 31 случае [Миронов: 263–264, 397–414]. Такие поступки с необходимостью приводят к благим последствиям для акторов.
Поступки же действующих лиц, связанные с пренебрежением этой ценностью, вызывают дурные для них последствия в 19 из 22 случаев, за привычным уже исключением Волха Всеславовича.
Итак, ценности героя «языческого» типа, характерные для нехристианских эпосов и девальвируемые в былинах, образуют трехуровневую иерархическую систему. На вершине иерархии находятся предельные ценности: 1) личная слава и 2) личная честь.
Инструментальной ценностью ( ценностью-средством ) высшего уровня является богатырский дар. Он понимается как исключительно ценный «персональный актив», который может быть «обменен» на личную славу или личную честь.
Инструментальной ценностью низшего уровня в условно «языческой» системе аксиологических категорий является «сердце богатырское», понимаемое как способность переживать героический гнев (от бесславия или бесчестия) и героическую «похоть» — желание личной славы и личной чести.
Укрепляемые ценности русского героического эпоса образуют аналогичную по структуре трехуровневую иерархическую систему.
На вершине указанной иерархии находятся: 1) предельная ценность соборной славы, понимаемой как молва о подвигах, совершаемых русскими богатырями бескорыстно во славу Божию, и 2) предельная ценность «честных» реалий (святынь, Божьих установлений на земле и др.).
Инструментальной ценностью высшего уровня является богатырский дар. Однако, в отличие от силы «языческого» героя, он мыслится как потенция, миссия, как призвание и ответственность, как своего рода избранность к бескорыстному служению в интересах «внешних» реалий: страдающих людей и христианских святынь.
В системе ценностей христианского эпического сознания инструментальной ценностью низшего уровня , позволяющей реализовать потенцию богатырского дара, является «сердце богатырское», понимаемое как способность переживать героический гнев от сознания ущерба, наносимого «честным» реалиям, и как подвижническое желание приумножить соборную славу русского богатырства.
Укажем, что «компрометируемая» в былинах картина мира в главных своих элементах соответствует осуждаемому в христианстве мировоззрению «ветхого человека». Такой взгляд на мир, согласно Отцам Церкви, свойственен не только язычникам, но может быть присущ индивидууму любого вероисповедания, в том числе принадлежащему к сообществу христиан, однако не исполняющему на деле заповеди Христа о любви к Богу и ближнему.
Одновременно былины последовательно утверждают картину мира, основанную на ценностях «нового человека»; эти ценности включают в себя любовь к страдающим ближним и ревнование о чести христианских святынь и Божьих установлений на земле.
Особо отметим, что состояние «ценностного центра»7 былинных героев динамично, изменчиво. В момент аксиологического выбора доминируют одни мотивирующие категории, однако после наступления последствий этого выбора их значение понижается, девальвируется или, наоборот, укрепляется.
Вытеснение дохристианских ценностных концептов осуществляется в былинах за счет системы эпических антиподов.
«Языческим» героям, ориентированным на ценности «ветхого человека», противопоставляются персонажи нового типа — богатыри-христиане.
Например, «ветхому» Василию Буслаеву противопоставлен «новый» Илья Муромец; «ветхому» Вольге — «новый» Мику-ла; «ветхому» Чуриле — «новый» Дюк, презирающий личную славу и богатство и ревнующий о «честных» реалиях, которые недостаточно чествуются киевлянами; «ветхому» Дунаю противопоставлен «новый» Добрыня; «ветхой» Настасье Коро-левичне — «новая» Настасья Микулична и т. д.
Нередко раннему аксиологическому возрасту героя противопоставляется его «новый» возраст, наступающий в тот момент, когда ценностная доминанта «ветхого человека» уступает место некой христианской ценности, мотивирующей богатыря. Так, «ветхому» Добрыне (доминанта личной славы — «больший» брат Змеи) противопоставлен «новый» Добрыня, отказывающий Забаве в «любви телесной» и прощающий Алешу за попытку отнять у него жену. На смену «ветхому» Садко, который нацелен на месть новгородцам, на стяжание личной славы, приходит «новый человек», рискующий жизнью из сострадания к тонущим корабельщикам. Княгиня Апраксия, желающая услаждать, «чествовать» себя ласками прославленных богатырей — Тугарина, Чурилы, Касьяна, — уступает место «новой» Апраксии, спасающей от голодной смерти заточенного в темницу Илью Муромца.
* * *
Вариативность народного эпоса ограничена: поступая вопреки представлениям эпического певца о поведении, достойном героя, Гильгамеш, Ахилл, Беовульф или Гэсэр перестанут быть в глазах аудитории героями, достойными воспевания, и само предание утратит смысл. Так, герои языческого эпоса не должны испытывать жалость к поверженному врагу или представителю «чужого» мира (для дохристианского сознание сострадание — это проявление слабости), не имеют права отказываться от шанса добыть ценное имущество (чтобы не навлечь на себя упреков в трусости).
Подавляющее большинство сюжетов русских былин предполагает отрицание ценностей нехристианского эпического сознания и укрепление аксиологических доминант любви к Богу и к ближнему. Если же допустить существование в древности неких дохристианских «пра-былин», то у таких песен должны были быть совершенно иные сюжеты и по существу другие герои.
Вернувшись на свадьбу собственной жены, «языческий» Добрыня ни за что не простил бы Алешу Поповича, но непременно казнил бы его, как Одиссей или Алпамыш расправились со своими злополучными соперниками.
В этих «языческих» былинах Алеша Попович, будучи мотивирован ценностью личной славы, после победы над Тугариным присвоил бы жену князя Владимира (отказ от столь ценного «трофея» означал бы для нехристианского героя признание собственного недостоинства).
В соответствии с каноном поведения нехристианского эпического персонажа Добрыня Никитич, освободив племянницу князя Владимира из змеиного плена, должен жениться на ней, забыв о своей супруге Настасье, дочери земледельца, так как обладание племянницей князя обеспечивает более высокий уровень личной чести.
В «языческих» былинах Садко не стал бы рвать струны из жалости к тонущим корабельщикам, но непременно женился бы на дочери Морского царя, потому что это обеспечило бы ему богатство и великую личную славу.
Если бы Илья Муромец был героем дохристианского эпоса, то не стал бы бескорыстно помогать осажденным жителям Чернигова. Победив Калина-царя, он захватил бы власть в Киеве, отмстив князю Владимиру за годы, проведенные в заточении по его приказу.
Если исключить христианские мотивации русских эпических героев, их характеры лишатся элементарной художественной цельности, утратят самость. Русский эпос — в отличие от героического наследия западноевропейских народов, сохраняющего дохристианские ценностные доминанты, — является эпосом христианским по самой своей сути. Безудержный и тщеславный Роланд, пожертвовавший жизнями тысяч рыцарей ради того, чтобы его никто не мог упрекнуть в трусости, мотивирован ценностями «ветхого человека». Другой герой французских жест, Гийом Короткий Нос, готовый убить своего короля за то, что тот перестал его одаривать, соглашается прийти на помощь пленным христианам только, когда Папа Римский оказывает ему великую честь, «отменяя» церковные требования и разрешая есть мясо во время постов и иметь десять жен. Сид Руй Диас, грабящий мирных мавров ради добычи и личной славы (равно как и герои «Песни о Нибелунгах», занятые стяжанием личной славы и местью за бесчестие), стремится к «языческим» ценностям.
Былины относятся к уникальному виду эпической поэзии, который полагает в качестве своей внеэстетической задачи девальвацию ценностей «ветхого человека». Целенаправленное и последовательное воздействие на аксиологическую систему слушателя есть главная жанровая функция русских героических песен. Такое воздействие однозначно является христианизирующим.
Христианские смыслы русского эпоса не могут быть расценены в качестве комплементарных или даже более поздних по отношению к смыслам условно «языческим», но представляют собой его изначальное содержание. В отрыве от концепций и положений христианства русская эпическая поэзия утрачивает свою идейно-художественную целостность.
Неявное сходство былинных мотивов и образов с мотивами и образами мифологическими, которое все же отмечают исследователи, должно рассматриваться как результат позднейшего возвратного влияния на былину лубочных «повестей в лицах», авторских и фольклорных богатырских сказок, а также побывальщин и переложений, искажающих исходные смыслы национального эпоса. «Языческие» образы и мотивы впервые возникали, в частности, в героических «преданиях» М. Д. Чулкова, М. И. Попова, В. А. Левшина, К. фон Буссе [Busse] и др. писателей и были весьма востребованы в образованном обществе. Так, например, Н. И. Новиков прямо намекал М. И. Попову на необходимость опубликовать «песни», якобы «оставшиеся от языческого суеверия»8.
Позднее эти претендовавшие на подлинность авторские «былины» были востребованы у комментаторов школьных хрестоматий и университетской профессуры. Немногие сомневались в языческой первооснове былинного эпоса не только в период популярности мифологической школы, но и полвека спустя. Поэтому, в частности, А. Н. Веселовский готовился к обвинениям в «научной ереси», когда, вопреки «принятому мнению», выдвинул свою гипотезу о том, что представление о «скотьем боге Волосе» могло «естественно выработаться из христианского св. Власия, покровителя животных», а отнюдь не наоборот [Веселовский: 28].
Как справедливо отмечает И. А. Есаулов, в современной научной практике широко распространена «редукция тех или иных литературных образов до мифологических (дохристианских) праформ (архетипов)» [Есаулов: 40]. Однако в случае русской героической поэзии любые попытки выделить «языческие» семантико-композиционные элементы представляются бесперспективными, т. к. наличие таких элементов противоречило бы жанровой функции былины как христианского эпоса.
Характерная жанровая функция русского эпического фольклора позволяет установить нижнюю границу его складывания не ранее X века. При этом более древние героические песни восточных славян, если они и существовали, не могут быть реконструированы на основе былин, поскольку последние не содержат — судя по результатам аксиологического анализа — значительного слоя «подавленных» или переосмысленных архаических верований.
Христианизирующая функция былин могла быть равно актуальной как на этапе борьбы с язычеством в период начального обращения Руси (X–XII вв.), так и спустя столетия, в XVII–XIX вв., в эпоху противостояния народной культуры секуляризующему, профанирующему воздействию идеалов и моделей поведения т. н. образованного общества.
Во время реформ Никона и Петра Первого эпическая традиция могла пережить новый этап развития, ведь обращение к древним песням становилось тогда естественным ответом крестьянства, казачества, духовенства, монашества и других духовных авторитетов русского народа (включая нищих, странников, юродствующих) на усиливающийся натиск секулярной культуры, предполагающей ценности «ветхого человека» в качестве своего идеала.
Евангельский дух русской героической поэзии — это и есть то «затекстовое» мировоззрение, эпическое знание, которое позволяло всем певцам, по точному наблюдению А. Ф. Гильфердинга, верно выдерживать характеры былинных героев и с легкостью восстанавливать духовную логику описываемых событий даже в том случае, если отдельный эпизод оказывался забытым, а также прослеживать связь между поступком действующего лица и его последствиями и удерживать логические закономерности, определяющие прохождение определенным персонажем различных аксиологических стадий [Гильфердинг: 24–25]. В случае «ветхих» богатырей эта логика детерминирует путь от первого успеха к трагическому финалу, в случае же героев христианского типа — от преступления к наказанию и к последующему преображению.
Список литературы Ценности «нового человека» в русском героическом эпосе
- Азадовский М. К. История русской фольклористики: в 2 т. M.: Учпедгиз, 1958. Т. 1. 479 с.
- Аникин В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. 332 с.
- Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари; Языки славянских культур, 2002. Т. 6. 799 с.
- Бернштам Т. А. Герой и его женщины: образы предков в мифологии восточных славян. СПб.: МАЭ РАН, 2011. 371 с.
- Богатырев П. Г. Функция лейтмотива в русской былине // Literatura, komparatystyka, folklor: księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. S. 693–709.
- Буслаев Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1887. VI, [2], 501 с. (Сер.: Сборник Отдела русского языка и словесности Императорской Академии наук; т. 42. № 2.)
- Веселовский А. Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине // Мерлин и Соломон. М.; СПб.: ЭКСМО-пресс, Terra fantastica, 2001. С. 17–378.
- Гильфердинг А. Ф. Онежская губерния и ее народные рапсоды // Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года: в 3 т. 2-е изд. СПб.: тип. Акад. наук, 1894. Т. 1. С. 1–62.
- Есаулов И. А. Гипотеза А. Н. Веселовского о соотношении христианское / языческое в русском национальном сознании и современная наука // Об исторической поэтике А. Н. Веселовского. Самара: Изд-во Самар. гуманит. академии, 1999. С. 39–45.
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.: Наука, 1974. 342 с.
- Миллер В. Ф. Экскурсы в область русского народного эпоса. М.: А. А. Левенсон, 1892. XII, 232, [2], 69 с.
- Миронов А. С. Аксиосфера русского эпоса и ценностный выбор его героев: культурфилософский анализ: дис. … д-ра филос. наук. Волгоград, 2021. 424 с.
- Новиков Ю. А. Христианская вера, монастыри и храмы в былинах // Церковь Преображения Господня на острове Кижи: 300 лет на заонежской земле: сб. ст. Петрозаводск: Издательский центр музея-заповедника «Кижи», 2014. С. 311–326.
- Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб.: Наука, 2001. 246 с.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. М.: Гослитиздат, 1958. 603 с.
- Путилов Б. Н. Эпос и обряд // Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л.: Наука, 1974.C. 76–81.
- Юдин Ю. И. Героические былины: поэтическое искусство. М.: Наука, 1975. 120 с.
- Algeo J., Butcher C. A. The Origins and Development of the English Language. Wadsworth: Cengage Learning, 2013. 347 p.
- Busse K. H. Furst Wladimir und dessen Tafelrunde. Alt-russische Heldenlieder. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1819. 160 s.