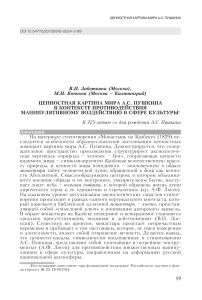Ценностная картина мира А.С. Пушкина в контексте противодействия манипулятивному воздействию в сфере культуры
Автор: Заботкина В.И., Коннова М.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
На материале стихотворения «Монастырь на Казбеке» (1829) исследуются особенности образно-словесной экспликации ценностных доминант картины мира А.С. Пушкина. Демонстрируется, что содержательное пространство произведения структурирует аксиологическая вертикаль «природа - человек - Бог», сопрягающая ценности видимого мира - символизируемую Казбеком величественную красоту природы, и ценности мира невидимого - воплощенную в образе монастыря тайну человеческой души, обращенной к Богу как ценности Абсолютной. Смыслообразующим центром, в котором объединяются внешние образы и их внутреннее, умозрительное бытие, выступает локус неба - вольная вышина, к которой обращена жизнь души лирического героя в ее «движении и стремлении» (ср. А.Ф. Лосев). На языковом уровне актуализация аксиологических смыслов стихотворения происходит в рамках единого вертикального контекста, который намечается библейской аллюзией монастырь - ковчег, представляющей собой «смысловой ключ» к пониманию авторского замысла. В образе монастыря на Казбеке невидимое и невыразимое становится «реально присутствующим, видимым и действующим» (В.Н. Лосский). Существуя во времени, монастырь предстает непричастным переменам и пребывает в том настоящем, которое, не имея измерения и длительности, являет собой откровение вечности. Делается вывод, что ценности-идеалы, символически воплощенные в стихотворении А.С. Пушкина, представляют собой «тончайшие и острейшие инструменты» (А.Ф. Лосев) для противодействия множественным манипуляциям в сфере культуры, направленным на деформацию русской национальной аксиосферы.
Культура, манипуляции, ценность, идеал, а.с. пушкин, «монастырь на казбеке»
Короткий адрес: https://sciup.org/149146762
IDR: 149146762
Текст научной статьи Ценностная картина мира А.С. Пушкина в контексте противодействия манипулятивному воздействию в сфере культуры
Культура являет собой осуществление ценностей, воспринимаемых обществом как основание его бытия. Обладая содержательной глубиной, требуя «всей полноты душевного участия», культура творчески целенаправленна и национально своеобразна [ср. Ильин 1994]. Национальная культура как единство ценностей, реализованных в материальных и нематериальных формах, ориентирована на идеалы, вневременные и сверхпространственные по своей природе. Выражая «конкретную полноту живой реальности» [Франк 2003, 181], идеалы служат «мерой вещей» для ценностной категоризации явлений действительности. Неизменность идеалов, воплощаемых народом в каждом последующем его поколении, является условием сохранения единства культуры.
В современном медиацентричном мире русская национальная культура оказывается сферой интенсивного манипулятивного воздействия внешних интересантов. Информационное воздействие глобальных медиа-акторов, направленное на «деформацию традиционной ценностной парадигмы» [Анненкова 2011, 268], сопровождается явным и скрытым внедрением не свойственных русской национальной традиции устойчивых гедонистических приоритетов. Всеобъемлющая деаксиологизация культуры, связанная с нивелировкой ее идеального основания, приводит к размыванию культурной идентичности и хаотизации общественного сознания [ср. Тюпа 2018, 209].
Необходимость сохранения национальной культуры в условиях внешнего манипулятивного воздействия обуславливает актуальность поиска путей предупреждения «ядерного расщепления» культурных доминант русской картины мира. В сфере гуманитарного знания этому может способствовать выявление глубинных оснований национальной аксиосферы, нашедших свое выражение в русской литературе, которая на протяжении столетий «выстраивала себя как подвиг миропонимания, идеалотворчества, как слово, призванное вести ко спасению, как весть о Боге и бессмертии» [Гачева 2019, 8—9].
Цель настоящей статьи — исследование ценностных доминант авторской картины мира А.С. Пушкина, заложившего «фундамент той великой культуры, которая помогла России остаться Россией, а не уподобиться какой-либо западной цивилизации и тем самым исчезнуть как неповторимое явление» [Непомнящий 2002, 395]. Аксиологические координаты художественной картины мира «величайшего представителя русского духа» [Франк 1990, 425] рассматриваются на материале стихотворения «Монастырь на Казбеке» — одного из первых произведений, в котором отличительные черты позднего периода творчества А.С. Пушкина выразились со всей «силой и глубиной» [ср. Баратынский 1987, 270].
Стихотворение «Монастырь на Казбеке» создавалось в августе — декабре 1829 г., после возвращения поэта из второй поездки на Кавказ. В нем отразилось незабываемое впечатление от древнего монастыря, расположенного над Военно-Грузинской дорогой: «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» [Пушкин 1994b, 236]. Беловой автограф стихотворения датируется сентябрем 1830 г., первая публикация, в альманахе «Северные Цветы на 1831 год», относится к декабрю 1830 г. В том, что работа над небольшим по объему стихотворением заняла более года, сказалась необходимость в «дистанции времени», которая в наиболее важных случаях требовалась поэту, чтобы «воплощать переживаемое не в гуще его, а хотя бы на шаг отступая» [Непомнящий 2022, 294].
Первая строфа стихотворения отличается характерной для пейзажного описания стилистической простотой:
Высоко над семьею гор, Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками, Как в небе реющий ковчег, Парит, чуть видный, над горами.
Начальное слово — выс о ко — задает символические координаты произведения. Семантика высоты, эксплицируемая наречием выс о ко , при развертывании стиха «удваивается». Линией отсчета в диаде «высокий — низкий» оказывается пространство максимально высокого — это иной, вознесенный над привычным мир, величие которого подчеркивается метафорой над семьею гор . Теплота, «свойскость», присущая метафоре семьи , смягчает строгую суровость описания, создавая топологически точную картину Кавказа, состоящего из множества горных отрогов, узлов, склонов. Передаваемая словом-символом семья идея сложного диалектического единства оттеняет одновременно и единственность Казбека, глава которого одиноко возвышается над множеством меньших вершин Кавказа, и его общность — метафорическое «родство» — с ними.
Обращение второго стиха — « Казбек [здесь и далее курсив в цитатах наш — В.З., М.К .], твой царственный шатер» — выделяет величественную вершину из цепи иных, безымянных гор. Притяжательное местоимением твой , указывая на второй, после лирического героя, семантический центр стихотворения, максимально приближает далекий Казбек, наделяемый в рамках дейктической пары «я — ты» личностными свойствами одушевленного собеседника поэта.
Эпитет царственный , напоминая о метафорическом господстве, главенстве Казбека «над семьею гор», оттеняет величие и мощь Кавказа. В значении лексемы шатер предметно-физические семы объемной протяженности смыкаются с ассоциативными производными — покрова, защиты. Сквозь конкретное значение просвечивают историко-культурные «восточные» коннотации (« татарск . палатка, намет»). «Восточный колорит», приглушенный в окончательном варианте стихотворения, в первой и второй редакции белового автографа обозначался эксплицитно, ср.: «Казбек! твой царственный шатер / Горит восточными лучами» [Пушкин 1994а, 794].
Мысль о непоколебимом постоянстве законов природы, символически передаваемая пирамидальной формой шатра Казбека, в третьем стихе получает темпоральное измерение: « Сияет вечными лучами ». Присущее эпитету вечный значение постоянства соотносится с идеей бесконечной длительности, связываемой с представлениями о «вечности» видимого мира.
В следующем, четвертом стихе торжественный образ «вечности» земной сменяется созерцанием вид е ния вечности небесной; массивность горной громады уступает место воздушной невесомости облаков : «Твой монастырь за облаками...». Объединяя контрастные семы «прозрачной легкости» и «закрытости, недоступности зрению», обстоятельство за облаками вводит мотив тайны, воплощением которой становится монастырь, являющий реальность иного мира.
Внутренняя форма слова монастырь (греч. povoq — «одинокий, один») эксплицирует идею инаковости, выделенности из привычного течения жизни. Находясь над обычным и в обычном являясь, монастырь представляет собой освященное пространство, бытие которого «не в мире, не мирское, <...> с миром не отождествляющееся» [Осипов 1995, 15]. Анафорический параллелизм, объединяющий второй и четвертый стихи, имплицирует образ двух вершин Казбека — физической («.твой царственный шатер») и духовной («Твой монастырь.»). Основанием отождествления становится здесь идея высоты как восхождения — внешнего, видимого и внутреннего, невидимого.
В пятом стихе сравнительный союз как намечает границы того умозрительного пространства, в котором является внутреннее предназначение монастыря на Казбеке: «Как в небе реющий ковчег». Денотативное поле слова небо соотносится с двумя планами бытия: с реальностью физической — «ширью и глубиной вселенной», «твердью, небесным сводом» [Даль 1956, 273], и метафизической — всей беспредельностью духовных миров, объемлющих земное бытие [Лосский 2004, 411]. Ал-люзивное сравнение как <...> ковчег помещает стихотворение в аксиологический контекст Священного Писания, отсылая к повествованию книги Бытия о спасении праведного Ноя от всемирного потопа, в водах которого погибло отступившее от Бога человечество (Быт. 6-9). Слово ковчег метонимически напоминает и о горе Арарат, у которой, согласно преданию, ветхозаветный праведник впервые ступил на освободившуюся от вод потопа землю. Автобиографические параллели находим во второй главе «Путешествия в Арзурум»: «Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. “Что за гора?” — спросил я, ...и услышал в ответ: “Это Арарат”. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег , причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, символы казни и примирения» [Пушкин 1994b, 220].
Имя-символ ковчег имплицирует ценностные антитезы. В предтек-сте ветхозаветного сказания о строительстве ковчега противопоставляются два пути: картина мира, погруженного в беззаконие («велико развращение человеков на земле» (Быт. 6: 5)), и образ личной праведности («Ной был человек праведный и непорочный в роде своем» (Быт. 6: 9)). Упоминание ковчега выступает скрытой аллюзией на Евангелие от Матфея, где ветхозаветное повествование о бездумном забвении Творца размыкается в будущее, приобретая эсхатологическую перспективу: «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег , и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24: 37—38).
Ковчег предстает реющим — плавно летящим — в небе . Присущие глаголу реять со-значения «без видимых усилий», «без участия управления» актуализируют мысль о Том, Кто без парусов и руля направляет движение ковчега. Семантика длительного и разнонаправленного движения сближает глагол реять с его церковнославянским гиперонимом носитися («мчаться туда и сюда»): «И возмогаше вода, и умножашеся зело на земли, и ношашеся ковчег верху воды» (Быт. 7: 18). Напоминая об избавлении от потопа (план прошлого) и служа залогом достижения спасительного берега (план будущего), ковчег становится символом веры — «осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом» (ср. Евр. 11: 1).
В шестом стихе образ ковчега проецируется на созерцаемую лирическим героем картину монастыря: «[Твой монастырь] Парит, чуть видный, над горами». Семантика глагола парить совмещает мысль о движении («держаться в воздухе, опираясь на восходящие потоки») с идеей неподвижности («на неподвижно распростертых крыльях»). Анти-номичность, преодолевающая противоположности динамики и статики, приоткрывает тайну бытия монастыря. Существующий во времени, он остается непричастным переменам и пребывает в том настоящем, которое, не имея измерения и длительности, «являет собой присутствие вечности» [Лосский 2004, 406]. Обстоятельство над горами , перекликающееся с метафорой первого стиха над семьею гор , оттеняет иерархичность мироздания, строгая гармония которого создается подчинением физического нематериальному, чувственного — сверхчувственному.
Во второй строфе область созерцаемого мира максимально расширяется, выражая внутренний опыт лирического героя:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью, Подняться к вольной вышине! Туда б, в заоблачную келью, В соседство Бога скрыться мне!
Предельная интенсивность чувства, передаваемая восклицанием «Далекий, вожделенный брег!», свидетельствует о переходе от зримого к переживаемому. Лирический герой, воспринимавший монастырь как нечто внешнее (« Твой монастырь.»), оказывается вовлеченным в созерцаемую им реальность. «Наблюдаемый мир становится пережитым миром — из внешнего превращается во внутренний, “интериоризируется”» [Гаспаров 1997, 22, 24]. В определении далекий значение пространственной удаленности уступает место субъективной модальной оценке — идее труднодостижимости цели.
Денотативная отнесенность иносказания первого стиха — Далекий, вожделенный брег ! — допускает множественность интерпретаций. Логика линейного развертывания текста анафорически сопрягает метафорическое имя брег с ближайшим предшествующим образом — монастыря-ковчега («Твой монастырь <...> парит, чуть видный над горами. / Далекий, вожделенный брег!»). В локативно-конкретном прочтении просматривается возможность и другого прочтения: монастырь-ковчег находится в середине пути ( парит ), стремясь к метафорическому брегу — цели земного бытия, его завершению. Эпитет вожделенный определяет брег как общую цель, к которой стремятся и «реющий в небе» монастырь, и лирический герой.
Динамическое наречие туда , анафорически связывающее второй и четвертый стихи строфы, объединяет мысль о достижении цели с идеей движения к ней, вводя ключевой для второй строфы мотив «перехода в иное» [ср. Жолковский 2011, 212]. Модальная частица б , вводящая сослагательный инфинитив следующего стиха — подняться к вольной вышине , отсылает к пространству будущего. Границы «детерминирующей ситуации», при которой возможным будет осуществление желаемой цели, обозначены результативным деепричастием второго стиха строфы:
«.сказав прости ущелью». Образы тесноты и темноты, рождаемые словом ущелье , метафорически соотносятся с идеями душевной несвободы. В черновом наброске стихотворения «Страшно и скучно», над которым А.С. Пушкин работал в октябре — декабре 1829 г., ущелье отождествляется с темницей: «Тесно и душно. / В диком ущелье / ... Небо чуть светит, / Как из тюрьмы » [Пушкин 1994а, 799]. Метафорическое сочетание сказать прости , указывающее на прощание перед расставанием, прочитывается в эмотивно-деятельностном ключе — как знак экзистенциального изменения, онтологического поворота — «перемены мысли», необходимой для восхождения из пространства настоящего ( ущелья ) к будущему ( вольной вышине ). Динамический инфинитив подняться к , передавая идею устремленности вверх, ввысь, указывает на возникновение «своей системы отсчета, другого масштаба» [ср. Непомнящий 2022, 288]. Темпоральная неопределенность, присущая оптативному наклонению («Туда б... подняться »), способствует расширению времени ы х границ строфы: значение желания обращено в будущее, которое, не будучи отграничено от настоящего, размыкается в вечность.
Прилагательное вольный , производное от знакового для пушкинского идиолекта слова-символа воля , актуализирует максимально широкий круг аксиологических смыслов. Пространственные значения — «просторный» (ср. «по вольному распутью моря »), «свободный, нестесненный в движении» (ср. «... начну я вольный бег .») — смыкаются в языке А.С. Пушкина с ценностно-этическими со-значениями — «независимый, не испытывающий принуждения» (ср. « вольное искусство »), «свободный» («Мы вольные птицы »). Эпитет вольный соотносится с высшей ценностью индивидуальной жизни — разумной волей суждения, волей выбора, право пользования которой есть залог возрастания истинной свободы человека [Лосский 2004, 483]. Не нарушаемая никаким принуждением, внешним воздействием, личной выгодой или давлением общественного мнения, эта свобода морального суждения есть путь «к принятию высшей воли», к совершенному подчинению собственной человеческой воли благой воле Творца [Вышеславцев 1990].
Слово вышина в поэзии А.С. Пушкина передает, преимущественно, значение «небесная высь», ср.: «И звезд ночных при бледном свете, / Плывущих в дальней вышине » (1814), «Спокойно все: луна сияет / Одна с небесной вышины » (1824). Физическое, пространственное значение индуцирует иносказательные смыслы, сформировавшиеся в рамках прецедентного контекста Священного Писания и Предания («Аз от вышних есмь» (Ин. 8: 23), «Слава в вышних Богу.» (Лк. 2: 14)), и сохраняющиеся в поэзии А.С. Пушкина, ср.: «То в вышнем суждено совете. / То воля неба...» («Евгений Онегин», 1824), «десница вышняя Господня » («Полтава», 1828—1829).
Десятый стих уточняет цель, к которой стремится лирический герой: «Туда б, в заоблачную келью». Сочетание заоблачная келья парафразирует слова четвертого стиха монастырь за облаками , будучи соотнесено с ним и словообразовательно ( за облаками ^ заоблачный ), и семантически (синекдохической заменой целого его частью: монастырь ^ келья ).
Определение заоблачный, наряду с прямым, морфологически мотивированным значением, передает образное, метонимическое — «незримый, невидимый». Фоническое единство паронимически сближает эпи- тет заоблачный с зеркально отражающем его слоговой строй сочетанием области заочны, которое в стихотворении «Молитва», написанном в июле 1836 г., указывает на мир вечности: «Отцы пустынники и жены непорочны, / Чтоб сердцем возлетать во области заочны, / Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, / Сложили множество божественных мо-литв_». Заоблачная келья может быть символически интерпретирована как «внутренняя клеть сердца», где человек обретает «начало того восхождения, в котором мир будет казаться ему все более и более единым, все более и более сосредоточенным, пронизанным духовными силами, образующим содержащееся в руке Божией единое» [Лосский 2004, 138].
В последнем стихе строфы поле зрения максимально расширяется, достигая «последних “пределов”» [ср. Гаспаров 1997, 17]. Кульминация всего произведения — заключительный стих «В соседство Бога скрыться мне!» — представляет собой нехарактерный для А.С. Пушкина «прямой взлет» [Непомнящий 2022, 314]. Единый ценностный центр, в котором сходятся все стремления лирического героя, оказывается столь велик, что в Нем обретают бытийные смыслы и «царственный шатер» Казбека, и монастырь, и ущелье.
В глаголе скрыться значение удаления от мира сочетается с мыслью о тайне и, одновременно, с идеей приюта, убежища, спасения. Лирический герой, находящийся в ущелье , стремится скрыться в соседство Бога , чтобы «приобщиться к началу, в котором — залог спасения жизни» [Франк 1994, 511]. Генетическое родство глагола скрыться со словами кров , покров сближает заключительный стих с началом 90 псалма: «Жи-вый в помощи Вышняго [ср. к вольной вышине ], в крове Бога Небесного водворится» (Пс. 90: 1).
Субъект действия, названного инфинитивами подняться , скрыться , выражен детерминантом — местоимением мне . Контаминация функционального значения субъекта и присущего дательному падежу морфологического значения объекта-адресата смягчает кажущуюся «дерзновенность» последнего стиха, указывая, что достижение «вожделенного брега» находится вне власти лирического героя. В присущем оптативному залогу внутреннем противопоставлении воли и действия, идеала и реальности проявляется определяющая методологию зрелого творчества А.С. Пушкина «универсальная по характеру» и «онтологическая по масштабу» коллизия: отношения человека, каков «он есть в наличии» — «с тем, каким он мог бы быть, то есть с тем, как прекрасно он замышлен Богом» [Непомнящий 2022, 613].
Проведенное исследование дает основание полагать, что организующим началом ценностной картины мира А.С. Пушкина, получившей свое художественное выражение в стихотворении «Монастырь на Казбеке», является телеологическая устремленность к Абсолютной ценности — идеальной полноте бытия, данной в Боге. Содержательное пространство произведения упорядочивает единая смысловая вертикаль, соединяющая земной, видимый мир, данный в его наличной действительности («ущелье»), и невидимую реальность мира небесного («вольную вышину»). Величественная неизменность природы, символизируемая «царственным» Казбеком, иерархически подчиняется вечному настоящему, являемому в образе «монастыря за облаками». Тематический ключ стихотворения — аллюзия «монастырь-ковчег» — сопрягает изображаемую в произведении художественную реальность с вневременным контекстом Священного Писания, указывая, с одной стороны, на возможность спасения, с другой — предостерегая от бездумного забвения идеальной первоосновы бытия. Подчинение земного небесному, физического сверхчувственному — основа иерархической структуры бытия, определяющей природу ценностной картины мира А.С. Пушкина. В этом стремлении «утвердить личность в бытии вечном, связать ее навсегда с бытием абсолютным» [Лосев 1994, 96] проявляется традиционная для русской литературы аксиологическая парадигма, обращение к которой может способствовать противодействию манипулятивным воздействиям в сфере культуры в контексте все возрастающей технократизации общества, релятивизации морали и абсолютизации эгоцентризма.
Список литературы Ценностная картина мира А.С. Пушкина в контексте противодействия манипулятивному воздействию в сфере культуры
- Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М.: Издательство Московского университета, 2011. 392 с.
- Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Правда, 1987. 480 с.
- Вышеславцев Б.П. Вольность Пушкина // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 398-402.
- Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. М.: Языки славянской культуры, 1997. 664 с.
- Гачева А.Г. «Идеал ведь тоже действительность...»: Русская философия и литература. М.: Академический проект, 2019. 734 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М.: Издательство общества любителей Российской словесности, 1865. 729 с.
- Жолковский А.К. Поэтика Пастернака. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 592 с.
- Ильин И.А. Религиозный смысл философии (Три речи) // Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т 3. М.: Русская книга, 1994. С. 15-88.
- Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994, 919 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2004. 504 с.
- Лосский Н.О. Ценность и Бог. Харьков; М.: Фолио; АСТ, 2000. 864 с.
- Непомнящий В.С. Удерживающий теперь: Пушкин в судьбе России. М.: ПСТГУ, 2022. 652 с.
- Осипов А.И. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 9-32.
- (a) Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. Т. 3, кн. 2. М.: Воскресенье, 1994. 935 с.
- (b) Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. Романы и повести. СПб.: Библиополис, 1994. 498 с.
- Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: Юрайт, 2018. 231 с.
- Франк С. О задачах познания Пушкина // Пушкин в русской философской критике: конец XIX - первая половина XX в. М.: Книга, 1990. С. 422-452.
- Франк С. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 487-583.
- Франк С.Л. Реальность и человек // Франк С.Л. С нами Бог. М.: АСТ, 2003. С. 133-438.