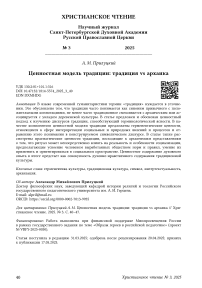Ценностная модель традиции: традиция vs архаика
Автор: Прилуцкий А.М.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В языке современной гуманитаристики термин «традиция» нуждается в уточнении. Это обусловлено тем, что традиция часто понимается как синоним привычного с положительными коннотациями, не менее часто традиционное смешивается с архаическим или ассоциируется с укладом деревенской культуры. В статье предложен и обоснован ценностный подход к изучению дискурсов традиции, способствующий терминологической ясности. В качестве компонентов ценностной модели традиции предложены герменевтические ценности, относящиеся к сфере интерпретации социальных и природных явлений и процессов и отражению этого понимания в конструируемом символическом дискурсе. В статье также рассмотрены прагматические ценности традиции, восходящие к архаическим представлениям о том, что ритуал может непосредственно влиять на реальность и особенности социализации, предполагающие усвоение человеком выработанных обществом норм и правил, умение их применять и ориентироваться в социальном пространстве. Ценностное содержание духовного опыта в итоге предстает как совокупность духовнонравственного содержания традиционной культуры.
Герменевтика культуры, традиционная культура, символ, интертекстуальность, архаизация
Короткий адрес: https://sciup.org/140312290
IDR: 140312290 | УДК: 130.2:81+101.1:316 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_40
Текст научной статьи Ценностная модель традиции: традиция vs архаика
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.3 2025
Alexander M. Prilutskiy
A Value Model of Tradition: Tradition vs Archaic

UDK 130.2:81+101.1:316
EDN DXMHDG
Анализ современных публикаций СМИ позволяет сделать вывод о том, что термин «традиция» в настоящее время превратился в пустое рамочное понятие, часто — с размытыми положительными коннотациями. В современном, часто очень неточном, дискурсе повседневности всё, что отличается устойчивостью форм, может маркироваться как «традиция». Поэтому существуют такие языковые штампы, как «традиционный рецепт», «традиционная встреча», «традиционное обострение» или даже «традиционная эпидемия гриппа» (примеры взяты из текстов СМИ). При этом в обществе отчетливо прослеживается запрос на «традицию»: то, что обозначается как «традиционное», легче находит путь к потребителю. Так, например, обозначение некоего продукта «традиционный мед диких пчел» (имплицитно предполагающее возможность «нетрадиционного меда домашних пчел», что является очевидным абсурдом), при всей нелепости подобной номинации, является успешным маркетинговым ходом. То, что «традиция», соотносимая с «культурой», противостоит «дикости», роли не играет, поскольку в данном случае принципиальной является апелляция не к содержанию концепта, но к нечеткому облаку эмотивных коннотаций. Более того, в дискурсах повседневности «традиционный» превратился в синоним привычного, здесь уже эмотивные оценки роли не играют, поэтому эта характеристика применима и к словосочетаниям «традиционные трудности» или «традиционные неприятности», очевидно ни к каким традициям отношения не имеющим.
Наряду с этим достаточно часто в повседневном восприятии отсутствует разграничение понятий «традиция» и «архаика», в результате чего традиция может пониматься как образ действия, обусловленный установками архаического мировосприятия, или же как нечто относящееся к культуре аграрного общества. В обоих случаях происходит подмена понятий: собственно традиционное не синонимично архаическому, а городские традиции имеют равное право на подобную номинацию, как и сельские (см. об этом: [Прилуцкий, 2019, 66–71]). В результате «приверженность национально-культурной архаике» [Скляров, 2021, 144] может ошибочно трактоваться как один из маркеров традиционного мировосприятия. Следует отметить, что смешение традиции и архаики является распространенной ошибкой, обусловленной смешением семантики терминов и слов языка повседневного общения. В рамках данного исследования лексемы «традиция» и «архаика» используются в качестве терминов.
Укорененность в прошлом, равно как и привычность действия, не является единственно достаточным критерием традиции. Существует ряд признаков, наличие которых позволяет разграничить традицию от архаики.
Архаика, понимаемая как термин, обозначает не нечто устаревшее, отжившее и т. п., но особый тип мировосприятия, предшествующий традиционному.
Для разграничения традиционного и архаического следует исходить из того, что «традиции хорошо структурированы, тогда как архаика не обладает рациональной структурой, не может выполнять функцию регулирования человеческого поведения; традиция устойчива, тогда как архаика не характеризуется определенностью и устойчивостью; архаика не кристаллизуется в социальных формах — это свойство традиции, но оседает на психологическом уровне, прежде всего — на уровне подсознания» [Костюк, 1999, 3–4].
В связи с этим устойчивое действие, при спонтанном восприятии представляющееся архаичным, с точки зрения структурного подхода может относиться к традиции, а не к архаике. Так, например, поведенческие паттерны, передающие нравственный опыт, могут интерпретироваться как «устаревшие» сторонниками иных «современных» этических установок, но это, особенно при наличии глубокого символизма, не делает их архаическими.
Стоит отметить, что научное изучение традиции начинается в XIX в., при этом «большой разброс авторских подходов характеризовался перевесом мнений о консервативном характере традиции» [Трегулова, 2021, 84], тогда как в обществах, в которых традиционный уклад определял повседневность, не было принято рефлексировать ни над традицией как таковой, ни над содержанием отдельных традиций.
Во избежание терминологической путаницы в рамках данного исследования термин «традиция» будет обозначать символический дискурс, понимаемый в широком смысле (включая дискурсы вербальные, невербальные, смешанные и гипердискурс), отвечающий критериям устойчивости и воспроизводимости [Лебедев, Прилуц-кий, 2021, 41]. Там, где нет символического содержания или же оно не воспринимается участниками коммуникации, — о традиции говорить затруднительно. Принципиально важным для понимания сущности традиции является разграничение традиции и привычки, основанное на семиотических свойствах традиции, и более сложное разграничение традиции и архаики.
Регулярное воспроизведение в относительно устойчивых, узнаваемых формах является важным признаком традиции. При этом акцент делается не на степень регулярности, то есть частоту, но на наличие определенной системности в воспроизведении. Семиотически значимое действие, совершаемое нечасто, например в силу того, что его совершение обусловлено ситуацией, которая сама по себе возникает нечасто, имеет такое же право на статус традиции, как и аналогичное действие, совершаемое с завидной регулярностью.
При этом критерий регулярности является не только формальной характеристикой традиции, правильная интерпретация его значения предполагает обязательное обращение к системе ценностей. В этом отношении регулярность является следствием ценности. То, что не имеет ценности, будь то ценность социальная (включая коммуникативную), мировоззренческая, эстетическая, прагматическая и т. д., не имеет возможности стать частью культурной памяти, сохраниться в виде регулярно воспроизводящегося действия-события. Иными словами, сохранение традиции возможно только в формате ее передачи, что, в свою очередь, предполагает воспроизведение, позволяющее новым поколениям воспринимать ценностный опыт, лежащий в основе соответствующих символических форм. Таким же образом формируются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности» [Указ № 809, 2022]. Целенаправленно сохраняется только то, что воспринимается в качестве ценности, соответственно, «традициями становятся не любые в то или иное время повторяющиеся явления, но осознанно отобранные среди всех других растворившихся в прошлом практик» [Лапина, 2023, 109]. Таким образом, можно предположить, что традиция является одновременно символическим выражением некоего ценностного опыта, попыткой его семиотического объективирования или попыткой символического формирования «смысловых структур жизни человека» [Даренская, 2021, 109].
Для дальнейшего изучения специфики традиции представляется целесообразным обобщить транслируемые ценности.
-
1. Герменевтические ценности
-
2. Прагматические ценности
-
3. Ценности социализации
-
4. Ценностное содержание духовного опыта
Основу духовной культуры динамично, но не революционно развивающегося общества составляет взаимодействие традиционных духовно-нравственных ценностей. Духовный опыт исторически сложившегося социума тогда может считаться основанным на традиционной системе ценностей, когда соответствующие установки, передаваемые традицией в символической форме, воспринимаются осознанно и актуально. Традиции, транслирующие этические, эстетические, мировоззренческие ценности, представлены в сложном взаимодействии, поскольку этические и эстетические ценности в условиях традиционной культуры наделяются онтологическим значением. Традиционная эстетика, основу которой создают хорошо известные эстетические категории, является инструментом приобщения человека к определенному набору ценностей, известных как эстетические категории, соответственно отвержение эстетической программы может выражать четко читаемое мировоззренческое содержание. Так, анализ с эстетической и моральной точек зрения эстетического оформления недавней Олимпиады в Париже позволяет сделать вывод о том, что наиболее эстетически убогие и омерзительные сюжеты1 (см. подр.: [Лебедев, Прилуцкий, 2014, 147-151]) одновременно были и наиболее безнравственными.
Данный вид ценностей передается традициями, относящимися к сфере интерпретации социальных и природных явлений и процессов и отражения этого понимания в конструируемом символическом дискурсе. В процессе культурного развития общества складываются паттерны понимания и объяснения символической реальности, формируется своеобразный герменевтический канон, в рамках которого наиболее распространенным семиотически значимым элементам культуры присваивается нормированное значение. Формирующийся семиотический язык становится инструментарием, позволяющим не только описывать природный и культурный ландшафты, но и моделировать различные отношения между ними. Таким образом формируется традиционное понимание и объяснение окружающей человека действительности, запечатленное в семиотике. В отличие от архаики, герменевтические ценности, транслируемые традицией, выступают как элементы упорядоченной се-миосферы. Таким образом происходит усвоение традиционного понимания значимых культурных феноменов, применительно к религиозной семиосфере речь может идти об интерпретации религиозных символов и т.д. Традиционные установки герменевтики, позволяющие ориентироваться в условиях непрекращающейся герменевтической ситуации [Гадамер, 1991, 368], интерпретируют ее динамику применительно к существующим запросам языковой личности читателя. В результате этого религиозное знание оказывается способным выполнять сложную этиологическую функцию, что не всегда может быть реализовано мифологической архаикой, как правило, предпочитающей наиболее простые объяснения [Ельчанинов, Эрн, Флоренский, 2004, 256]. Религиозные — и вообще сакрализированные — символы в результате этого не только узнаются и воспринимаются, но и оказываются способными участвовать в формировании новых текстов. Благодаря данному виду ценностей происходит формирование традиционных паттернов интерпретации сложных феноменов и процессов, обеспечивающее преемственность культуры.
В рамках ритуализированного дискурса формируется разновидность прагматических ценностей, восходящая к вере в то, что ритуал может непосредственно (то есть исключительно в силу его правильного совершения) влиять на реальность. Если не семантически, то структурно она восходит к архаике магического мировосприятия или его реликтам. Архаика вообще часто тяготеет к магизму. Подобные ценностные установки в принципе к традиции не относятся, в социальных формах они не кристаллизуются. Однако по мере десемантизации, утраты связи с магическими верованиями происходит их «новое прочтение»: архаический магизм замещается семиотическим содержанием формирующейся традиции, традиция формируется как ее «символическое понимание». Равным образом утрата людьми, воспроизводящими традицию, способности к восприятию ее символического содержания часто приводит к различным деформациям на уровне восприятия. Такая традиция или забывается, отмирает, или на уровне восприятия деградирует до архаики. Многое из того, что сейчас воспринимается как архаика, например понимаемые вне культурно-исторического контекста ценностные установки культуры повседневности, отраженные в «Домострое», в условиях герменевтического горизонта XVI в. представляются вполне традиционными. При этом их прагматика не самоценна, за решением повседневных бытовых задач отчетливо читается достижение некоего идеала семьи как малой церкви, к бытовой прагматике несводимого. Герменевтическим ключом к прочтению их семиотики является старорусская духовная культура, пронизанная не всегда нам понятным религиозным символизмом.
Интертекстуальность десемантизированного действия, разумеется, при этом сохраняется. Не случайно «теоретики», работающие над формированием «советской социалистической обрядности», были вынуждены учитывать, что одна лишь постановка вопроса о возможности «новых обрядов семейно-индивидуального быта» длительное время вызывала возражение партийных чиновников, полагавших, что «выдумывание новых обрядов представляет собой… капитуляцию перед старым дореволюционным бытом, насыщенным религиозной идеологией и религиозно-магическими обрядами» (Традиционные, 1981, 5). За подобными возражениями скрывалось интуитивное осознание феномена интертекстуальности: «новые» обрядовые тексты в силу интертекстуальности образующих их ритуалогем способны вызывать ассоциации с изначальными сакральными представлениями.
Социализация предполагает усвоение человеком выработанных обществом норм и правил, умение их применять и ориентироваться в социальном пространстве. Жизнь человека, являющаяся традиционной базовой духовно-нравственной ценностью
[Указ, 2022, 809], одновременно является базовой ценностью социализации. Соответственно традиции, обеспечивающие социализацию, направлены на символическую трансляцию ценности человеческого бытия и фундируемые ею коммуникативные ценности. Последние обладают амбивалентными качествами: с одной стороны, сама коммуникация и соответствующий ей обмен информацией выступает в качестве ценности человеческого общения, а с другой стороны, «сущность аксиологического рассмотрения коммуникации определяется тем, что любые коммуникационные взаимодействия включают процессы оценки и целеполагания, подразумевают осознанную или бессознательную ориентацию субъекта коммуникации на те или иные ценности» [Грачева, 2014, 107)]. Этому соответствует религиозная антропология ав-раамических религий, утверждающих создание человека по Божественному образу и подобию (в христианстве и иудаизме) и по «прекрасно устроенному образу» (в исламе). Таким образом, ценность человеческой жизни в религиозной традиции обретает онтологическое основание, а социализация, основанная на ценности человеческой жизни, трактуется как соответствующая Божественному замыслу: «нехорошо быть человеку одному» (Быт 2:18). В этом отношении Церковь как прообраз Града Небесного в теологии блж. Августина выступает как идеальный инструмент человеческой социализации: христианин и без внешнего понуждения исполняет законы общества более, нежели эти законы требуют. Здесь мы видим решительное размежевание традиции с архаикой.
Очевидно, что социализация, понимаемая в контексте превалирования традиции или архаики, отличается набором базовых ценностей: понимание человеческой жизни, прав и достоинства личности в качестве ключевых духовно-нравственных ценностей характерно именно для традиции. В условиях архаики роль данных ценностей не только невелика, но часто они воспринимаются как установки враждебного социального уклада. Любопытно, что характеристика данных ценностей как «либеральных» и даже «модернистских» является показателем приверженности именно архаическому мировосприятию.
Традиционные ценности в культуре повседневности выступают как переосмысление архаики, наполнение архаики символическим содержанием, при этом архаика может мимикрировать под традицию, одновременно обвиняя носителей последней в модернизме, либерализме, отрыве от корней — вариантов тут множество. Поэтому базовые традиционные духовно-нравственные ценности — «жизнь, достоинства, права и свободы человека» — являются ценностями именно традиционными: для архаического мировосприятия перечисленное не является ценностями. Так, например, за стихийным отвержением «глубинным народом» преобразований Петра Первого четко угадывается конфликт архаики и зарождавшейся традиции «регулярного государства» (см.: [Домников, 2014, 161]): фактически традиция отвергалась под лозунгом верности традиции.
В условиях, когда культура повседневности во многом формируется установками архаики, переход к традиционному обществу часто порождает феномен ламинарного традиционализма. Отдельные традиции, организующие некоторые области культуры, могут сосуществовать с архаическими установками, влияющими на другие ее области. Так, например, приверженность религиозному традиционализму может уживаться в нем с «бытовой архаикой», включающей, например, веру в педагогическую действенность унизительных физических наказаний, веру в теорию плоской земли и подобные реликты архаического мифа, к традиции не имеющие отношений. Можно предположить, что смешение традиции и архаики, «архаизация традиции» может использоваться в целях дискредитации институтов традиционного общества и традиционных духовно-нравственных ценностей, что является одним из инструментов в современной борьбе идеологий, поскольку защита российских традиционных духовно-нравственных ценностей является задачей «обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» [Указ, 2022, п. 1].
Родственный феномен ламинарной культуры, хотя и на другом уровне и в других проявлениях, характерен и для установок постмодерна, характеризующегося амбивалентностью фундаментализма и модернизма (см. об этом: [Головушкин, 2015, 87–97]).
Постмодерн, продолжив тенденции к построению посттрадиционного общества, отчетливо присутствующие уже в модерне, фактически тоже сформировал ламинарную культуру, в которой семиосфера распадается на относительно автономные дискурсы. При этом на структурном уровне архаика выступает преимущественно как текст, тогда как традиция — как сложный дискурс. Если уничтожение текстов является не более чем знаковым приемом, порождающим множество новых текстов (см.: [Лавров, 2000, 50]), то уничтожение дискурса множество новых дискурсов продуцировать неспособно.