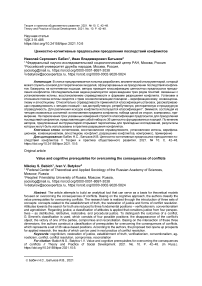Ценностно-когнитивные предпосылки преодоления последствий конфликтов
Автор: Бабич Николай Сергеевич, Батыков Иван Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка разработать аналитический инструментарий, который может служить основой для теоретических моделей, сфокусированных на преодолении последствий конфликтов. Базируясь на когнитивном подходе, авторы проводят классификацию ценностных предпосылок преодоления конфликтов. Исследовательская задача реализуется через введение трех рядов понятий: связанных с установлением истины, восстановлением справедливости и формами разрешения конфликта. Установки в отношении поиска истины сводятся к трем основополагающим позициям - верификационизму, конвенционализму и агностицизму. Относительно справедливости применяется классификация установок, рассматривающих справедливость с четырех позиций - как дистрибутивную, ретрибутивную, ресторативную и процедурную справедливость. Для различения исходов конфликта используется классификация Г. Зиммеля, состоящая из четырех возможных состояний: исчезновение предмета конфликта, победа одной из сторон, компромисс, примирение. На пересечении трех указанных измерений строится классификация предпосылок для преодоления последствий конфликтов, представляющая собой набор из 36 ценностно фундированных позиций. По мнению авторов, предложенный инструментарий открывает перспективы для прикладных исследований, результаты которых могут быть использованы в практике разрешения конфликтов.
Когнитивизм, восстановление справедливости, установление истины, верификационизм, конвенционализм, агностицизм, конфликт, разрешение конфликтов, компромисс, примирение
Короткий адрес: https://sciup.org/149138652
IDR: 149138652 | УДК: 316.485 | DOI: 10.24158/tipor.2021.10.6
Текст научной статьи Ценностно-когнитивные предпосылки преодоления последствий конфликтов
Постановка задачи . Даже экономические конфликты, такие как арбитражные или административные споры, часто оставляют после себя психологические и социальные травмы. Если же говорить о социальных конфликтах вообще, то конец совершавших преступления политических режимов, войн, гражданских столкновений, восстаний, массовых беспорядков всегда создает потребность в преодолении последствий, поскольку они носят травматический характер, а травмы способны длительно затруднять жизнь людей даже после прекращения насилия. Обширная научная литература в области примирения и разрешения конфликтов содержит описание многочисленных процедур, основанных на ритуализации, драматизации, эстетизации, рационализации и других приемах социальной нормализации прошлого [1].
Однако эти частные процедуры не исключают и не разрешают в полной мере основного противоречия в преодолении последствий конфликтов. Оно состоит в том, что такие позитивные направления движения, как установление истины, достижение мира и справедливости, могут вступать в противоречие друг с другом. Например, Ю. Эльстер [2] приходит к выводу о потенциальном существовании пяти негативных связей между этими тремя целями: 1) ожидание справедливости в будущем является препятствием для мира в настоящем, если сопровождается ожиданием наказания или перераспределения, усугубляющим конфликт; 2) справедливость в настоящем является препятствием для мира в будущем, если суровость наказания стимулирует сохранение статус-кво со стороны тех, кто еще не наказан; 3) стремление к установлению истины препятствует справедливости, если имена преступников публикуются без надлежащего разбирательства, а также если вместо должного исправления вреда предпринимаются только символические жесты; 4) установление истины может быть препятствием для достижения мира, если называние виновных не сопровождается их наказанием; 5) существует отрицательная корреляция между правосудием переходного периода и дистрибутивными отношениями. Иными словами, поиски истины могут препятствовать примирению и наоборот.
В этой связи возникает вопрос об оптимальном относительно общего результата сочетании поисков истины и усилий по примирению. Должны ли вообще ослабляться в ситуациях поиска прощения и примирения требования к установлению истины? Если да, то насколько? Как это повлияет на возможности достижения справедливости? Получение точных ответов на эти вопросы – достаточно отдаленная задача, решение которой относится скорее к области эмпирических исследований (межстрановых сравнений, социального экспериментирования и т. п.). Однако в общем исследовательском процессе эмпирическому этапу должно предшествовать формулирование аналитических альтернатив (гипотез, моделей, теорий), которые подлежат сравнению на конкретных данных. И задача настоящей статьи – предложить аналитический инструментарий, который в дальнейшем может быть использован для формулирования таких альтернатив; а конкретно – основанную на когнитивном подходе классификацию ценностных предпосылок преодоления конфликтов. Упорядоченная и структурированная совокупность таких предпосылок образует набор возможных ситуаций, в которых могут действовать стороны конфликта в процессе преодоления его последствий.
В силу того, что наше исследование на данном этапе является сугубо теоретическим, для его проведения используются такие стандартные инструменты, как аналогия, мысленный эксперимент и т. п. Общий ход рассуждений при этом подчиняется следующей логике. Прежде всего, будут кратко сформулированы принципы когнитивного подхода к социальной реальности в нашем понимании. Затем будет предложен вариант «карты» возможных ценностных установок по отношению к последствиям конфликта. Каждая из возможных установок представляет собой характеристику ситуации, в которой оказываются участники конфликта, образуя тем самым предпосылку к преодолению либо закреплению последствий конфликта. Все они возможны, разумеется, в рамках заданной классификации, логические границы которой обусловливают конечность и совокупности установок.
Когнитивный подход к социальной реальности. Дж. Серл, один из наиболее значительных критиков когнитивизма, еще в 1984 г. дал следующее краткое описание его сущности: «Мышление – это обработка информации, но обработка информации – это просто манипуляция символами. Компьютеры осуществляют манипуляцию символами. Таким образом, наилучший путь изучения мышления… – изучать манипулирующие символами вычислительные программы, находятся ли они в компьютерах или в мозгу. С этой точки зрения, задача когнитивной науки – описание мозга не на уровне нервных клеток, не на уровне сознательных ментальных состояний, но скорее на уровне его функционирования как системы обработки информации» [3, p. 43]. Дж. Серл не изобрел эту трактовку, а только дал четкое описание существовавшего на тот момент понимания феномена. И хотя за прошедшие годы в рамках когнитивизма был предложен целый ряд «антивычислительных» модификаций [4], особенно значимых для социальных наук [5], компьютерная метафора все еще остается вполне релевантным для наших задач обобщением. Во-первых, она до сих пор активно используется в качестве основы собственно когнитивных исследований [6]. Во-вторых, при трансляции научных результатов в междисциплинарных связях наибольшую ценность имеют модели, гипотезы и факты, которые прошли тщательную апробацию внутри «материнской» дисциплины. Заимствование остродискуссионных моделей из смежных областей всегда несет высокие риски использования ложных посылок. Поэтому социальные исследователи в основном по-прежнему предпочитают рассматривать когнитивные процессы через «компьютерные» модели, хотя и включающие некоторые расширения [7, р. 162]. Например, одно из современных руководств по социально-познавательным процессам построено как описание этапов переработки информации: от восприятия через сохранение и различные способы трансформации к извлечению в процессе коммуникации [8].
Таким образом, когнитивный подход к социальной реальности состоит в анализе того, какая информация, в каких системах и каким способом должна быть переработана для получения определенных результатов. В рассматриваемом случае - для преодоления последствий конфликтов. Хорошо известно, что восприятие информации о конфликте особенно сильно подвержено искажениям, зависящим от ценностных позиций и идентичности участников [9]. Проблема состоит в том, что преодоление последствий конфликтов, как правило, состоит из действий в двух направлениях: с одной стороны, предпринимаются попытки восстановления справедливости и наказания виновных, с другой - усилия по достижению примирения и взаимного либо одностороннего (если страдали беззащитные) прощения, и оба направления подвержены очевидным искажениям. Восстановление справедливости путем наказания виновных, согласно юридической логике, требует как можно более полного выяснения истины, т. е. того, кто кому причинил какой вред, по чьему приказу, кто от этого получил выгоду и т. п.
На основании этой информации наказываются военные преступники, предаются суду коррупционеры, проводятся люстрации, определяются размеры компенсаций. Но выяснение истины очевидным образом может препятствовать примирению, особенно если вина лежит на значительном количестве людей. В таком случае эти люди (а также их сторонники из числа наблюдателей) просто не принимают истину как таковую, активно борются с ней и даже имеют шансы победить. С другой стороны, сомнительно, чтобы полноценное и прочное примирение после конфликтов могло быть достигнуто при утаивании и замалчивании фактов. Взаимные подозрения, очевидно, не являются благоприятной почвой для успешной кооперации. Таким образом, два естественных направления действий по преодолению последствий конфликтов оказываются, по крайней мере, частично, противоречащими друг другу. Точки таких противоречий и являются теми ценностными факторами, которые могут влиять на преодоление последствий конфликта. Соответственно, поставленная задача требует введения трех рядов понятий: связанных с установлением истины, восстановлением справедливости и формами разрешения конфликта (в том числе прощения и примирения). Понятия первого ряда в значительной степени относятся к гносеологическим предпосылкам, однако имеют и вполне выраженную ценностную окраску, понятия второго и третьего рядов относятся к предпосылкам почти исключительно ценностным.
Установки в отношении истины . Современная наука характеризуется большим количеством в разной степени проработанных теорий истины [10]. Упрощая картину до применимой к выяснению истины о конфликтах, можно сказать, что возможны три принципиально разных позиции:
-
1) верификационизм - убеждение в том, что всякое преступное действие, в принципе, может быть раскрыто, его жертвы могут быть обнаружены, а виновные найдены и доказательно осуждены;
-
2) конвенционализм - позиция, согласно которой виновные и жертвы, а также размеры, мотивы и все иные характеристики преступлений определяются на основе некоторого социального и/или политического консенсуса;
-
3) агностицизм - гносеологическое допущение, которое отрицает возможность надежного установления факта преступлений, их масштаба, виновных в них и их жертв.
Верификационизм, по-видимому, является идеологией современных международных судов, занимающихся военными преступлениями и преступлениями против человечества. Само их существование основывается на вере в то, что даже по прошествии многих лет и на любом расстоянии преступник может быть обнаружен, его преступление раскрыто, а вина доказана. Претворение этой идеологии в жизнь обеспечивается существенной асимметрией возможностей между создателями международных судов и обвиняемыми. Конвенционализм представляет собой более компромиссную позицию, и возникает она часто там, где участники конфликта более или менее равны. Явные элементы конвенционализма наблюдались в Нюрнбергском процессе, где западные союзники не ставили под сомнение действия СССР, который вскоре будет объявлен ими таким же тоталитарным государством, как и нацистская Германия. Агностицизм, который, на первый взгляд, представляет собой почти невозможную для общества позицию, при ближайшем рассмотрении оказывается одной из наиболее распространенных характеристик постконфликтной ситуации. Обычно он оправдывается сложностью социальных процессов, много-уровневостью мотивов всех участников конфликта и неясностью их ролей, что делает невозможным не только выяснение истины, но даже и достижение в обществе договоренностей о ней.
Агностицизм фактически является официальной позицией современной России в отношении СССР, т. к. наше государство в сколько-нибудь ясной форме не осудило ни ортодоксальных коммунистических лидеров, ни лидеров, разрушивших коммунистический режим.
Установки в отношении справедливости . Ценностные предпосылки, связанные с социальными нормами установления справедливости, позволяют предложить классификацию, охватывающую четыре ее вида [11]:
-
1) дистрибутивную - справедливое распределение ограниченных благ;
-
2) ретрибутивную - справедливое воздаяние за дела;
-
3) ресторативную - справедливую компенсацию ущемления прав;
-
4) процедурную - справедливое следование принятым правилам.
Все виды справедливости допускают применение различных критериев (справедливо ли равное распределение благ или пропорциональное труду, должно ли воздаяние удовлетворять чувства жертв или только исключать повторение преступления и т. п.), но независимо от них весь (или почти весь) класс справедливых ситуаций в каждом случае удовлетворяет некоторому ценностному требованию, которое определяет смысл самого понятия справедливости. И критерии в данном случае служат лишь для детализации и расшифровки. Поскольку невозможно подробно проанализировать каждый вид справедливости, мы ограничимся их дополнительным описанием через ценностные требования, которые в нашем понимании являются парадигмальными. В случае дистрибуции оно может звучать как «каждый получает те блага, которые заслуживает»; для ретрибуции - то же самое, только применительно к наказанию; требование ресторативной справедливости заключается в том, что все потери должны быть возмещены; согласно процедурной справедливости, правила игры не должны меняться в процессе самой игры.
Ясно, что разные виды справедливости не только не взаимоисключающие, но и обычно тесно переплетены. Ретрибутивные и ресторативные действия часто совершаются в рамках одной ситуации и регламентируются процедурными правилами. Компенсация жертвам нарушения прав легко становится одним из критериев дистрибуции, так же как и необходимость наказания, если оно связано с лишением или передачей благ. Тем не менее ценностные требования, лежащие в основе видов справедливости, могут явным образом противоречить друг другу. Так, исходя из интересов большинства населения, может быть установлен налог в пользу многочисленных бедных слоев общества, который будет удовлетворять мажоритарно-эгалитарному (обеспечение экономического равенства для большинства) критерию дистрибутивной справедливости. Но при повышении уровня благосостояния и переходе большинства населения в средний класс, то же самое требование равенства для большинства должно будет привести к изменению налогообложения (средний класс уже не должен будет поддерживать бедных), что, несомненно, покажется процедурно несправедливым как бедным, так и богатым представителям общества. Подобные примеры могут быть без труда умножены, и они свидетельствуют не только о несовпадении разных видов справедливости, но и о том, что могут быть ситуации, в которых часть из них не является актуальной ценностью.
Установки в отношении прекращения конфликта . В рассмотрении возможных исходов конфликта можно опереться на не потерявшую своей актуальности классификацию, предложенную Г. Зиммелем [12, р. 325-321]:
-
1) исчезновение предмета конфликта;
-
2) победа одной из сторон;
-
3) компромисс;
-
4) примирение.
Первый пункт классификации можно исключить из рассмотрения, т. к. он имплицитно предполагает разрешение конфликта без последствий. В самом деле, если исчезновение предмета конфликта его завершает, то это означает, что в ходе такого конфликта не возникает взаимных обид и травм, которые очень часто сами по себе служат основой для продолжения противостояния. Оставшиеся три варианта завершения конфликта также могут рассматриваться как имеющие прямое отношение к восстановлению справедливости, поскольку все эти понятия принадлежат к сфере ценностей. Например, победа одной из сторон практически всегда воспринимается либо как справедливая, либо как несправедливая, причем очень часто одновременно, сторонниками соответственно победившей и проигравшей сторон. Являющееся элементом примирения прощение в качестве такого действия, которое частично освобождает пострадавшего от тяжести последствий совершенного в отношении него зла (к этим последствия относятся обида, унижение, жажда мести и т. п.), в принципе, тесно связано с восстановительными процедурами. Более того, получение прощения может быть одним из критериев достижения ресторативной справедливости.
Тем не менее между установками в отношении справедливости и завершения конфликта существует принципиальная разница. Все виды справедливости подразумевают приведение ситуации в соответствие с некоторыми более или менее формальными принципами, которые выступают по отношению к человеку как внешняя сила. Легко представить себе такое положение вещей, при котором решение суда вызывает всеобщее эмоциональное возмущение, но признается процедурно абсолютно справедливым. Можно быть недовольным существованием системы социального обеспечения и теми принципами, на которых она основана, но нельзя оставаться в рамках логики и отрицать, что социальное обеспечение удовлетворяет определенным критериям дистрибутивной справедливости. Что же касается таких вещей, как компромисс и примирение, то их достижение зависит исключительно от воли участников ситуации. Никто не может логически строго соблюсти процедуры доказательства того, что человек должен простить убийцу своих близких, потому что соответствующие процедуры невозможны. Существование их аналогов в рамках психотерапевтических техник подчиняется принципиально иным закономерностям, чем логические доказательства. Также никакие внешние формальные критерии не могут служить основой для компромисса, если только враждующие стороны его не хотят.
Несколько сложнее дело обстоит с победой одной из сторон. Она зависит не только и не столько от внутренних убеждений участников конфликта, сколько от баланса их сил. Однако и побежденный и победитель могут признавать или не признавать соответствующий статус друг друга. Таким образом, разница между установками в отношении справедливости и завершения конфликта заключается в том, что виды справедливости относятся к области договоренностей (соответствие которым может быть проверено), а победа, компромисс и примирение – это субъективные позиции участников.
Перекрестная классификация предпосылок . Полная комбинация всех возможных установок в отношении конфликта (за исключением варианта «исчезновение предмета конфликта»), которые могут служить ключевыми предпосылками для преодоления его последствий, образует 36 вариантов, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация предпосылок
|
Условный код позиции участника конфликта |
Сфера предпосылок |
||
|
Прекращение |
Справедливость |
Истина |
|
|
1 |
Победа |
Дистрибутивная |
Верификационизм |
|
2 |
Конвенционализм |
||
|
3 |
Агностицизм |
||
|
4 |
Ретрибутивная |
Верификационизм |
|
|
5 |
Конвенционализм |
||
|
6 |
Агностицизм |
||
|
7 |
Ресторативная |
Верификационизм |
|
|
8 |
Конвенционализм |
||
|
9 |
Агностицизм |
||
|
10 |
Процедурная |
Верификационизм |
|
|
11 |
Конвенционализм |
||
|
12 |
Агностицизм |
||
|
13 |
Компромисс |
Дистрибутивная |
Верификационизм |
|
14 |
Конвенционализм |
||
|
15 |
Агностицизм |
||
|
16 |
Ретрибутивная |
Верификационизм |
|
|
17 |
Конвенционализм |
||
|
18 |
Агностицизм |
||
|
19 |
Ресторативная |
Верификационизм |
|
|
20 |
Конвенционализм |
||
|
21 |
Агностицизм |
||
|
22 |
Процедурная |
Верификационизм |
|
|
23 |
Конвенционализм |
||
|
24 |
Агностицизм |
||
|
25 |
Примирение |
Дистрибутивная |
Верификационизм |
|
26 |
Конвенционализм |
||
|
27 |
Агностицизм |
||
|
28 |
Ретрибутивная |
Верификационизм |
|
|
29 |
Конвенционализм |
||
|
30 |
Агностицизм |
||
|
31 |
Ресторативная |
Верификационизм |
|
|
32 |
Конвенционализм |
||
|
33 |
Агностицизм |
||
|
34 |
Процедурная |
Верификационизм |
|
|
35 |
Конвенционализм |
||
|
36 |
Агностицизм |
||
Рассмотрим кратко приведенную классификацию в качестве инструмента описания позиций участников конфликта. Позиция 1 означает, что участник ориентирован на победу, придерживается дистрибутивной теории справедливости и верификационистской теории истины. Такой участник не склонен к компромиссным решениям, убежден в том, что возможно исчерпывающим образом установить вину и справедливо перераспределить конечные блага. Это очень жесткая установка, которую, как правило, можно занимать только с позиции силы. Позиция 36, напротив, характеризуется предельной мягкостью, стремлением затушевать все противоречия и забыть о конфликте, выполнив формальные процедуры. Такая позиция часто может служить не для преодоления последствий конфликта, а для его «замораживания». Но если крайние варианты представленной классификации имеют достаточно ясные последствия, то многочисленные промежуточные позиции, встречающиеся в реальной жизни намного чаще, оставляют множество вопросов относительно своего влияния на конфликт, последствий изменения и сочетания у разных сторон. Все эти вопросы остаются предметом будущих исследований.
Заключение . Предпринятый нами анализ имеет скорее теоретический, чем прикладной характер, однако он открывает близкие и достаточно очевидные перспективы для прикладных исследований с последующим практическим использованием результатов. Во-первых, предложенная на качественном уровне модель может быть формализована в виде типологии ситуаций, которая позволит создать некоторое целостное представление о возможных количественных эффектах разных сочетаний предпосылок. Во-вторых, эта модель может быть использована в лабораторных экспериментах по возникновению и разрешению конфликтов, которые позволят собрать данные о корреляциях в восприятии различных ситуационных переменных и их уровней (например, может оказаться, что ретрибутивная и ресторативная справедливость психологически неразделимы), тем самым переоценить степень реалистичности ситуаций. В-третьих, предложенный набор переменных является готовым инструментом для организации эмпирических данных об урегулировании конфликтов. Уже имеющиеся в этой области исследования могут быть использованы для сравнительного анализа характеристик и результатов применения правосудия и мирного процесса. В совокупности все три направления при их достаточном развитии должны дать основания для принятия рациональных решений в ситуациях разрешения острых социальных конфликтов.
Список литературы Ценностно-когнитивные предпосылки преодоления последствий конфликтов
- См., например: Kelley D.L., Waldron V.R., Kloeber D.N. A communicative approach to conflict, forgiveness, and reconciliation. N.Y., 2019. 166 p.; Maddison S. Conflict transformation and reconciliation: Multi-level challenges in deeply divided societies. N.Y., 2016. 304 p.; Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Contemporary conflict resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflicts. Cambridge, 2011. 507 p.
- Elster J. Justice, truth, peace // Transitional justice / ed. by M.S. Williams, R. Nagy, J. Elster. N.Y., 2012. P. 78-97. https://doi.org/10.18574/nyu/9780814794661.003.0003.
- Searle J. Minds, brains and science. Cambridge, 1984. 107 p.
- Bruner J. Acts of meaning. Cambridge, 1990. 179 p.; Fiske S.T., Taylor S.E. Social cognition: From brains to culture. L., 2013. 592 p.; Putnam H. Representation and reality. Cambridge, 1991. 154 p.
- Schwarz N. Warmer and more social: Recent developments in cognitive social psychology // Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24, iss. 1. P. 239-264. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.239
- Graves M. Mind, brain and the elusive soul. L., 2016. 256 p.; Marchetti G. Consciousness: A unique way of processing information // Cognitive Processing. 2018. Vol. 19, iss. 3. P. 435-464. https://doi.org/10.1007/s10339-018-0855-8; Walmsley J. Mind and machine. N.Y., 2012. 190 p.
- Eck D., Turner S. Cognitive science and social theory // The Oxford Handbook of Cognitive Sociology / ed. by W. H. Brekhus, G. Ignatow. N.Y., 2019. P. 153-168.
- Greifeneder R., Bless H., Fiedler K. Social cognition: How individuals construct social reality. N.Y., 2018. 258 p.
- См., например: Ross L., Ward A. Naive realism in everyday life: Implications for social conflict and misunderstanding // Values and knowledge / ed. by E.S. Reed, E. Turiel, T. Brown. Mahwah, 1996. P. 103-135; Vallone R.P., Ross L., Lepper M.R. The hostile media phenomenon: Biased perception and perceptions of media bias in coverage of the Beirut massacre // Journal of Personality and Social Psychology. 1985. Vol. 49, iss. 3. P. 577-585. https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.3.577.
- Kirkham R.L. Theories of truth: A critical introduction. Cambridge, 2001.
- См., например: Schroeder D.A., Steel J.E., Woodell A.J., Bembenek A.F. Justice within social dilemmas // Personality and Social Psychology Review. 2003. Vol. 7, iss. 4. P. 374-387. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0704_09.
- Simmel G. Soziologie. Leipzig, 1908. 782 s.