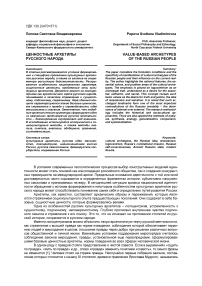Ценностные архетипы русского народа
Автор: Попова Светлана Владимировна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются условия формирования и специфика проявления культурных архетипов русского народа, а также их влияние на современную российскую действительность. Раскрываются особенности национального характера, сущностные ценности, проблемные зоны культурных архетипов. Делается акцент на логоцентризме как архетипичной черте русского народа, понимаемой в качестве стремления к сущностному, подлинному, сакральному. Через данный концепт характеризуются такие базовые ценности, как стремление к правде и справедливости, идея мессианства и спасения. Отмечается, что подобные архетипические ориентиры формируют одно из важнейших противоречий русской ментальности - доминирование внутреннего над внешним. В исследовании используются исторический и социокультурный методы, а также методы анализа, синтеза, аналогии, обобщения, сравнения, систематизации.
Культурные архетипы, русская идея, мессианство, логоцентризм, цивилизационная миссия России, русское самосознание, древнерусское государство, современная Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/149134756
IDR: 149134756 | УДК: 130.2(470+571) | DOI: 10.24158/fik.2020.3.1
Текст научной статьи Ценностные архетипы русского народа
В условиях современных геополитических процессов выбор конструктивных моделей идентичности может стать основой как консолидации российского общества, так и создания конкурентных преимуществ на международной арене. Предельные основания идентичности с той или иной достоверностью часто скрываются в определенных фрагментах истории, субъективно нагруженных смыслами и принимаемых на веру. В сегодняшней ситуации кризиса национальной идентичности обращение к истокам формирования и некоторым особенностям культурных архетипов русского народа может способствовать пониманию самих себя и определению путей развития России.
Архетипы, как известно, составляют архаические образы и переживания, которые являются отражением социокультурного опыта предшествующих поколений. Они содержат в себе базовые, сущностные ценности, которые формировались веками.
Одна из особенностей русских культурных архетипов – логоцентризм, устремленность к сущностному, подлинному, неповерхностному. Глубоко прописано внутреннее чувство подлинного смысла и стремление к его поиску. Это то, что не исчезает на протяжении столетий из русской истории, сохраняется в русском народе.
Именно логоцентризмом можно объяснить такую архетипичную черту русской ментальности, как стремление к высшей правде как норме поведения, соблюдение которой обеспечивает гармонию людей и мироздания в целом; отыскание правды через добро при решении различных вопросов общественной и личной жизни. Важнейшим условием поддержания миропорядка считалось соблюдение законов мироздания, правды, установленной еще первопредками, сформулировавшими базовые ценностные архетипы, нормы поведения во всех сферах человеческой жизни.
В одном ряду с правдой стояло представление о чистой совести. Если в выражениях «судить по правде», «жить по правде» и др., слово «правда» заменить понятием «совесть», то смысл фразы не изменится [1]. Человек стоял на страже правды. Неслучайно первые собрания законов, составление которых относится к началу ХI столетия, времени правления Ярослава Мудрого, назывались
«Русская Правда». Совесть и правда являлись сущностным центром всех законов и нравственных норм Древней Руси [2]. При этом для индивида большую ценность представлял не сам закон, а правда, заложенная в этом законе и защищаемая им. Поэтому правда ценилась выше закона и была необходима для достижения внутренней гармонии. Если установленный закон не соответствовал правде, то считался неправедным, нуждающимся в корректировке либо отмене. Вся совокупность законов в рамках древней правовой системы представляет собой комплекс частных «правд», регулирующих конкретные типы нарушения установленного правопорядка. В то же время славяне никогда не забывали о наличии высшей правды, являвшейся для них главной ценностью. К ней обращались тогда, когда не хватало обычных средств для решения повседневных проблем [3].
Очевидно, что понимание правды в русском самосознании существенно отличается от классической западноевропейской трактовки, где сильны рационалистические, прагматические установки. В русской традиции отчетливо выражена ценность иррационального и мистического миропонимания, а также интуитивное восприятие сакрального начала, характерным проявлением которого является высшая правда [4].
В то же время стремление к сущностному, подлинному, сакральному формирует существенное противоречие русской ментальности – явное доминирование внутреннего над внешним. Для русских характерно определенное недоверие и болезненное восприятие внешних форм. Поэтому недостаточно развиты такие сферы жизнедеятельности, как, например, дизайн, юриспруденция, закон. Внешний закон менее важен, чем внутренний, который, как уже отмечалось, есть совесть. В этом смысле интересны слова Феофана Затворника: «Дело не главное в жизни, главное – настроение сердца, к Богу обращенное» [5, с. 152].
Русский народ до сих пор ощущает себя периферией в социальной и экономической сферах, но архетипически осознает себя центром в духовном плане. Со времени формирования смысловой формулы «Москва – третий Рим» в русское самосознание проникают идеи мессианства, соборности, которые подробно исследованы российскими мыслителями в контексте русской идеи. Исторически сложилось, что к моменту, когда в Московии практически завершился процесс формирования ядра государственности, пала Византийская империя. Россия в такой ситуации оказалась единственным независимым православным государством, поэтому постепенно стала развиваться идея преемственности, представление о том, что центр восточного христианства переносится в Москву, а Русская земля превращается в землю «истинного православия» [6, с. 240]. Идея о Москве как «третьем Риме», сменившем Константинополь, развитая монахом Фи-лофеем, получила свое официальное признание при Иване IV Грозном.
Необходимо отметить, что, объявив себя единственными наследниками Византийской империи, русичи переняли также отрицательное отношение к Западу. Противостояние между католицизмом и православием возникло еще до раскола христианского мира на западный и восточный. Это было связано с тем, что чувство избранности и величия, свойственное данным типам мировоззрения, не могло не вызвать непонимания и противоречий между ними. И этот антагонизм по наследству перешел к русичам [7].
Россия стала ощущать себя центром православия и взяла на себя роль по охране его чистоты, защиты православных во всем мире, встав на путь мессианства. Русский этнос, «познавший истину спасения в единении», свою силу в борьбе с иноземными захватчиками, был готов к восприятию подобных идей. Они полностью соответствовали максималистским склонностям русской души [8]. По мнению В.В. Зеньковского, провиденциалистские идеи «богоизбранности русского народа» как носителя православной веры, исторической миссии России в приближении Царства Божьего на земле нашли свое продолжение в концепте «Святая Русь», а также в ряде философских изысканий XIX в., содержащих положения о всемирном призвании России [9].
В идее спасения проявляется тотальность русского сознания: если что-то делать, то делать во вселенском масштабе. Формулы «Москва – третий Рим» и «Святая Русь» предполагали духовно-нравственное совершенствование, стремление к божественной справедливости и разумности, единение человечества на началах добра и любви, т.е. соборности. Однако воплощение этого смысла чрезвычайно трудно, поскольку есть невероятный зазор между идеалом и реальностью и требуются огромные жертвы, усилия и духовное напряжение в противостоянии злу. Может быть, поэтому великие подвиги и великие трагедии русского народа не являются редкостью. Объявление его богоизбранным символизировало «ориентацию на очистительное страдание в духовном противоборстве Добра и Зла, на драматические испытания в духовно-нравственном постижении Божественного человеколюбия и, тем самым, на инициирование всечеловеческого спасительного единения в Любви. Таков имманентный смысл русской идеи» [10].
В целом следует отметить, что идеи мессианства так или иначе сопровождали всю историю развития России и русского народа. Идеи об особом пути страны, ее духовной и исторической роли в мире поднимались во многих литературных и философских произведениях, в частности, в работах Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова.
Со времени реформаторской деятельности Петра I религиозные варианты идеи «Москва – третий Рим» и «Святая Русь» заменяются политическими смыслами в рамках конструкта «Великая Россия». Это было связано со стремлением связать абсолютную монархию не с религиозным началом, а с социальным устройством. Другими словами, это уже был иной вариант мессианства, проникнутый идеей империализма и необходимостью обустройства огромной страны.
По мнению некоторых исследователей, новая версия мессианства обнаруживается также в марксизме, стремительно проникшем в российское общество и культуру XIX в. Идея мессианства в русском варианте марксизма (большевизме) проявляется «в уверенности, что Россия, где пролетариат первым разрушит капитализм и империализм, послужит образцом для трудящихся других стран» [11, с. 116]. При этом прослеживается огромное влияние русского мессианства на данную идеологию, ее русификация, о чем высказывался, в частности, Н.А. Бердяев [12]. На роль мессии выдвигается пролетариат, страдающий и ущемленный в правах, поэтому он искупит грехи всего человечества, построив коммунистическое общество – символический прообраз Божьего Царства на земле. Победа в Великой Отечественной войне породила новый всплеск мессианских чувств, вызванных осознанием победы и восприятием России спасительницей мира от фашизма.
В настоящее время вновь становятся популярными идеи об особом пути России, ее исторической роли и миссии в общемировом пространстве. Зачастую они проникнуты мотивами противопоставления России и Запада; актуализируются идеи спасения мирового сообщества, в данном случае – от агрессии США; идеи поиска правды, подлинного смысла, ощущения себя духовным центром мира.
Таким образом, одной из архетипичных черт русского народа является логоцентризм как стремление к сущностному, подлинному, сакральному. Внутреннее чувство подлинного смысла обусловило стремление к чистой совести, высшей правде как норме поведения, отыскание правды через добро при решении различных жизненных проблем. С логоцентризмом тесно связаны идеологемы спасения, соборности и мессианства, пронизывающие всю историю развития России и русского народа. Сначала это были формулы «Москва – третий Рим» и «Святая Русь», предполагающие идеи богоизбранности русского народа как носителя православной веры, стремление к соборности, единению человечества на началах добра и любви. Затем эти концепты сменяются идеей «Великой России», связанной с построением империи и укреплением самодержавия. Новая версия мессианства обнаруживается в марксизме, где на роль мессии выдвигается пролетариат. На современном этапе вновь становятся популярными идеи об особом пути развития России, ее исторической роли и миссии.
Ссылки:
-
1. Комков А.А. Духовные проявления в культуре дохристианской Руси [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии: электронное научное издание. 2010. № 1 (16). URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/257-article_18-8.html (дата обращения: 09.02.2020).
-
2. Лебедев Л. Крещение Руси [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/kreshhenie-rusi/ (дата обращения: 10.02.2020).
-
3. Бобылёва Е.Ю. Проблема соотношения феномена правды в языческой культуре древних славян и русской христианской культуре [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии: электронное научное издание. 2007. № 2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya-fenomena-pravdy-v-yazycheskoy-kulture-drevnih-slavyan-i-russ-koy-hristianskoy-kulture (дата обращения: 09.02.2020).
-
4. Там же.
-
5. Цит. по: Умное делание. О молитве Иисусовой / сост. игумен Валаамского монастыря Харитон. М., 2015. 384 с.
-
6. Пенская Т.М. Феномен российского авторитаризма (к вопросу о его происхождении) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 7 (102). Вып. 18. С. 237–243.
-
7. Там же. С. 240–241.
-
8. Рожков В.П. Русская идея: образ и смыслы // Известия Саратовского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2011. Т. 11, № 4. С. 35–39.
-
9. Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Т. 1. Ростов н/Д, 1999. 542 с.
-
10. Рожков В.П. Указ. соч. С. 37.
-
11. Дыркова Л.А. Концепция русского мессианства в зарубежной славистике (Питер Дункан) // Евразийство и мир. 2013. № 1. С. 113–120.
-
12. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 224 с.
Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична
Список литературы Ценностные архетипы русского народа
- Комков А.А. Духовные проявления в культуре дохристианской Руси [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии: электронное научное издание. 2010. № 1 (16). URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/257-article_18-8.html (дата обращения: 09.02.2020)
- Лебедев Л. Крещение Руси [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/kreshhenie-rusi/ (дата обращения: 10.02.2020)
- Бобылёва Е.Ю. Проблема соотношения феномена правды в языческой культуре древних славян и русской христианской культуре [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии: электронное научное издание. 2007. № 2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya-fenomena-pravdy-v-yazycheskoy-kulture-drevnih-slavyan-i-russkoy-hristianskoy-kulture (дата обращения: 09.02.2020)
- Бобылёва Е.Ю. Проблема соотношения феномена правды в языческой культуре древних славян и русской христианской культуре [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии: электронное научное издание. 2007. № 2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya-fenomena-pravdy-v-yazycheskoy-kulture-drevnih-slavyan-i-russkoy-hristianskoy-kulture (дата обращения: 09.02.2020)
- Цит. по: Умное делание. О молитве Иисусовой / сост. игумен Валаамского монастыря Харитон. М., 2015. 384 с