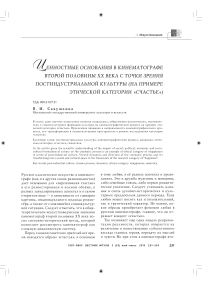Ценностные основания в кинематографе второй половины XX века с точки зрения постиндустриальной культуры (на примере этической категории «счастье»)
Автор: Савушкина Виктория Игоревна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 3 (53), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье дано научное осмысление влияния социальных, общественно-политических, экономических и социокультурных формаций культуры на кинематографический процесс на примере этической категории «счастья». Прослежена динамика и направленность кинематографического процесса, его трансформации в социокультурном пространстве в рамках исследования категории «счастья».
Постиндустриальная культура, кинематографический процесс, динамика, этическая категория "счастье", семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/14489505
IDR: 14489505 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи Ценностные основания в кинематографе второй половины XX века с точки зрения постиндустриальной культуры (на примере этической категории «счастье»)
Русское классическое искусство в кинематографе (как и в других своих разновидностях) дает основания для «переживания счастья» в его разностороннем и полном объёме, в разных завуалированных аспектах и в самом открытом виде — в зависимости от сценария картины, индивидуального подхода режиссёра, а также от сложившейся социокультурной ситуации. Следует отметить, что в общетеоретическом искусствоведческом значении кинематограф второй половины XX века носил системно-исторический метод, который позволяет рассмотреть кинематограф как сложную динамическую систему.
Перед глазами советских зрителей все время находятся образы «счастья», в основном в теме любви, в её разных аспектах и проявлениях. Это и дружба мужчины и женщины, либо семейные союзы, либо первое романтическое увлечение. Следует учитывать влияние и связь духовно-исторических и культурных предпосылок данного периода. Тема любви может носить как и положительный, так и трагический характер. Не важно, какие образы приобретает феномен любви в русском кинематографе, главное, что он отражает концепт «счастья».
Так возникает еще одна модель репрезентации реальности, которая опирается на включение в повествование субъективного взгляда главных героев, передачу их мыслей и чувств. Но при этом в кинематографе вто- рой половины XX века словно боялись говорить о любви, заменяя ее различными имитациями — исторической необходимостью, дружбой, партийной солидарностью, браком (к/ф «Служебный роман», «Покровские ворота» и другие). Для кинематографической системы данного периода, нуждавшейся в обновлении, подобное потрясение основ образности и репрезентации реальности стало важным событием, поскольку эти эксперименты привели к серьезным изменениям в искусстве, так как кинематограф постоянно эволюционировал под влиянием истори- ческих, духовных, социальных и моральных устоев, а также пересекался с различными литературными и художественными практиками. В целом кинематограф второй половины XX века создал новый, чрезвычайно важный для своего развития тип репрезентации реальности на экране.
Категорию «счастья» можно рассматривать и с точки зрения не этической категории, а концепта, как например это сделал в своём диссертационном исследовании С.Г. Воркачёв на тему «Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа». Исследование трансформации этической категории «счастья» в культуре данного периода сформировало достаточно значимые элементы формирования картины мира. Актуальность исследования категории «счастья» заключается именно в анализе основных переломных моментов в кинематографе, а также трансформации категории «счастья» в связи со сломом общественно-политических, экономических и социокультурных формаций. Во второй половине XX века в кинематографе проявляются радикальные перемены в социокультурном пространстве, кризис традиционно-ценностных установок, меняется понимание связи искусства, в данном случае кинематографа, с нравственноэстетическими категориями, которые видоизменялись в данный период.
Кинематографический процесс второй половины XX века постоянно ищет пути самовыражения и самоопределения в изме- нённых формах сознания. Кинематограф в полной мере раскрывал самоопределение, которое самовыражается через концепт «счастья». Речь идёт о проявлениях самовыражения и самоопределения в зависимости от влияния общественнополитических и социальных норм. Следует вспомнить знаменитый советский фильм «Человек-амфибия» режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева, где раскрывается тема любви, причём в открытом её виде, что, несо- мненно, редко показывалось в кинематографе того времени. Один из центральных образов фильма — образ «человека-амфибии», как некой инсталляции, художественного эксперимента. С одной стороны, авторы фильма цитировали известные культурные образы, с другой — создали аномальный образ, который так же раскрывал тип репрезентации реальности на экране. «Счастье» в руках главных героев — Эхтиандра и Гутиэры. И любовь носит запретный, тайный и скрытый характер. Концепт «счастья» в советском кинематографе в первую очередь носит оттенок любви, несмотря на социальные и моральные нормы общества второй половины XX века. В целом данный период в различных жанрах искусства стремится разрушить символику традиционной культуры, что придаёт реальности субъективную окраску, благодаря образной символике.
В кинематографе второй половины XX века можно выделить некую неоднозначность понимания и трактовки концепта «счастья», его различные виды и формы интерпретации — в соответствии с социокультурными, моральными, нравственными ценностями. Посредством того, как трансформируются данные ценности во временном пространстве, можно проследить развитие и эволюцию самого представления о «переживании счастья», в зависимости от конкретного периода развития кинематографа и, наконец, сюжета кинофильма.
Из вышеизложенного вытекает идея о выделении принципа инкультурации. Именно инкультурация во многом повлияла на формирование кинематографа и в целом общей картины мира данного периода. Под термином «инкультурация» следует принимать заимствование индивидуумом основных элементов и признаков культуры (нормы, традиции, ценностные ориентации, символы). Инкультурация внесла в кинематографический процесс совершенно новые стандарты различных культурных практик.
Процесс взаимовлияния культур, а также обмен культурными особенностями, который носит название процесса аккультурации, так же имеет место быть с точки зрения рассмотрения кинематографа. Процесс аккультурации внёс отдельный вклад в системы ценностных ориентаций и предпочтений, принятых в обществе, сюда же следует отнести основы социально-политического устройства, морали, нравственности, мировоззрения, обычаев, обрядов и традиций. Здесь так же следует выделить заимствование семиотических моделей и систем других культур, стилей, знаков, символов, регалий. Кроме того, заимствование культур Запада привносит в кинематограф новые тенденции, которые выделялись в жизнеобеспечении, профессиональной деятельности, приобретении и потреблении товаров и услуг, личностном развитии. «Теория аккультурации, — справедливо отмечает И.А. Ушканова, — довольно часто подвергалась критике за отсутствие фундаментальных теоретических разработок. И именно фундаментальные ак-культурационные исследования до сих пор нужны. Благодаря постоянно появляющимся исследованиям, которые затрагивают малоизученные или вообще новые аспекты этой проблемы, теория аккультурации дополняется новыми идеями, тем самым развивается и совершенствуется. Поэтому вполне закономерно возникает вопрос: каковы перспективы ее дальнейшего развития?» [3, с. 152, с. 112—115].
Конечно, концепт «счастья» в российском кинематографе не может сводиться только к теме любви. Материальное благо также имеет весомую ценность у русского народа.
Вспомним кинофильм «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих и Евгением Мягковым. Здесь концепт «счастья» раздваивается на две параллельные линии. Это линия материального блага, успешной карьеры главной героини, и, конечно же, тема любви её и её подчинённого Новосельцева. Показывать человека в работе, в размышлениях и переживаниях, с ней связанных, — прочно сложившаяся традиция советского искусства. В ее основе — социалистическое отношение к труду как к созиданию, творчеству, формирующему личность.
Период второй половины XX века тесно связан с социальным реализмом. Социальный реализм — парадигмальная установка социально-исторического познания, основанная на трактовке общества и его исторической эволюции в качестве объективной реальности, внеположенной индивидуальному сознанию в рамках субъектнообъектной оппозиции [4]. Глубокое влияние имело общественное мнение, устоявшиеся нормы и ценности советского периода, некая «трезвость» и «ясность» общественносоциальных связей, которые отражались со всей своей объективностью в советском кинематографе. Именно этот социальный реализм строил единую цельную систему кинематографа. И единственной альтернативой социальному реализму были сказки.
Изучением фольклорных, мифологических, литературных текстов, в частности сказок, занимался российский учёный В.Я. Пропп, который видел в народных сказках напоминание о тотемических ритуалах инициации [2]. Он считал, что в сказках нет определённого, точного напоминания о какой-либо определенной стадии культуры: здесь смешиваются и сталкиваются друг с другом различные исторические циклы и культурные стили. Кроме того, Пропп приводит этнографические данные, показывающие процесс разложения древней тотемической религии и превращения сакральных некогда устных преданий в сказки. Рассматривая этносы, ещё не расставшиеся с тотемизмом (и не имеющие сказок как та- ковых), находящиеся в процессе его разложения, и современные сказки «культурных» народов, Пропп приходит к выводу о единстве происхождения волшебной сказки [2].
Культура второй половины XX века действует как рамка, посредством которой эмоциональный опыт организуется, именуется, классифицируется и интерпретируется. Более того, именно культура предоставляет в наше распоряжение не только лингвистические средства, но и репертуар образов, символов, историй, артефактов, которые используются нами в нашем личном опыте коммуникации. Репертуар этот разнообразен, но лимитирован, и некоторые образы или речевые выражения имеют для нас большую ценность или актуальность, чем другие, которые могут быть вовсе запрещены или вытеснены на периферию культурного производства. Фильмы не только отражают, но и сами активно участвуют в создании своего рода культурного лексикона образов и символов, которыми мы пользуемся для выражения наших чувств.
Отсюда следует, что кинематографический процесс советского периода имеет свою цельную единую семиотическую систему. Здесь большое влияние играет коммуникация. В данном случае кинематограф в рамках некой структурированной системы можно рассматривать как текст. Известный российский социолог Т.М. Дридзе отмечает, что в «коммуникативно-познавательной деятельности содержание, внутренние связи и отношения сложной системы личностного сознания воспроизводятся для других в виде представлений о них, выражен- ных в текстовых связях и отношениях, в содержании текстов» [1]. Кинематограф как коммуникативно-познавательная деятельность имеет различные логические текстовые связи, которые и составляют весь семиотический текст. Средством воспроизведения этого текста, его инструментом являются знаки. Знаки в кинематографе, как и в любой семиотической системе, составляют знаковые элементы. Кинематограф даёт шанс «вторичного» познания мира и предстаёт как самостоятельный цельный механизм. Кинематограф как цельная семиотическая система совмещает в себе зрительный и слуховой компонент, икононические и условные знаки. Кинотекст вытесняет книжный текст в руках человека. Кинотекст более референтен, так как главный персонаж кино обладает массой деталей, которые еще следует домыслить в случае книги. Следует выделить, что главными составляющими экранного повествования являются: кадр (как наименьшая частица целого) и монтаж, как средство создания драматургической линии, основных конфликтов. Аудиальный образ гармонично вписывается в данное экранное пространство, что в дальнейшем образует целостное и единое семиотическое поле.
Социокультурная ситуация второй половины XX века связана с активными изменениями и трансформациями в области кинематографа. Явно показан динамический аспект этической категории «счастья», который чётко проанализирован на наиболее ярких примерах советского кинематографа в данной статье.