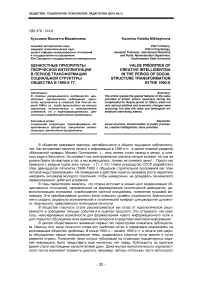Ценностные приоритеты творческой интеллигенции в период трансформации социальной структуры общества в 1990-е гг.
Автор: Кузьмина Виолетта Михайловна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются особенности ценностных приоритетов художников, артистов, музыкантов в сложный для России период 1990-х гг., когда происходили не только серьезные политические и экономические изменения, но и трансформировались ценностные и мировоззренческие ориентации.
Социальная структура, трансформация общественных процессов, творческая интеллигенция, ценностные приоритеты
Короткий адрес: https://sciup.org/14939439
IDR: 14939439 | УДК: 378:
Текст научной статьи Ценностные приоритеты творческой интеллигенции в период трансформации социальной структуры общества в 1990-е гг.
В обществе назревали факторы нестабильности и общего ощущения неблагополучия. Как вспоминает министр печати и информации в 1990-е гг., а ранее главный редактор «Московской правды» Михаил Полторанин, «…пять копеек стоил проезд в метро, а хотелось ездить бесплатно. За киловатт-час электроэнергии платили четыре копейки, на том же уровне брали за квартиры и газ, а мы возмущались: почему не снижают цены! …Просто мы привыкли с каждым годом жить лучше…» [1, c. 61]. Новое руководство СССР разработало план двенадцатой пятилетки (1986–1990) с обширной строительной программой как план «второй индустриализации». На приведение в действие скрытых резервов роста надеялись направить энтузиазм молодого поколения, чтобы немедленно, не дожидаясь технического перевооружения, добиться ускорения.
В годы перестройки казалось, что страна вступает в новый цикл модернизации общественных отношений, направленной на формирование политической демократии, демонополизацию экономики, освобождение частной инициативы, появление трудовой мотивации. Эти преобразования должны были повысить уровень социального благосостояния и создать социально-экономический и политический комфорт для раскрытия духовного, творческого, нравственного потенциала личности.
В обществе гласность стала рассматриваться как отказ от идеологической зашо-ренности в освещении текущих событий и в оценках прошлого. Это открывало, как казалось, неисчерпаемые возможности для формирования нового информационного поля и для открытого обсуждения всех важнейших вопросов в средствах массовой информации.
В центре общественного внимания первых лет перестройки оказалась публицистика. Именно этот жанр печатного слова мог наиболее остро и оперативно реагировать на волновавшие общество проблемы. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в печати уже широко обсуждались самые злободневные темы, выдвигались спорные точки зрения о путях развития страны. Появление таких острых публикаций на страницах подцензурных изданий невозможно было представить еще несколько лет назад. Публицисты на короткое время стали настоящими «властителями дум». Даже внутри монологического журналистского текста возникают элементы диалога: например, авторы «Огонька» часто используют риторические вопросы, приводят различные точки зрения, стремясь обеспечить так называемый «плюрализм мнений».
В стране появились лидеры общественного мнения из числа представителей творческой интеллигенции – журналисты, писатели, ученые. Среди них было немало людей гражданского долга и большого личного мужества. В конце 1986 г. возвратился из горьковской ссылки А.Д. Сахаров. Широко известный как один из создателей водородного оружия, правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира (1975), ученый был и неутомимым поборником нравственности в политике. «Быть интеллигентным» он считал «социальным долгом человека», вкладывая в это понятие прежде всего «способность к пониманию другого» [2, c. 228].
Интеллигенция всегда была мощной движущей силой во всех сферах социальнообщественной жизни. Согласно убеждениям некоторых современных ученых-историков именно сила интеллигенции явилась подлинной причиной перестройки. Ученые утверждают, что «верхушка» советской интеллигенции разочаровалась в идеологии «развитого социализма», формировавшей государственный строй в Советском Союзе и разрушила его при помощи реформ перестройки, продиктованных курсом на «ускорение».
Даниил Гранин в статье «Собраться с духом, чтобы выжить» [3] пишет «Мы всю дорогу жили при некомпетентном руководстве, которое с легкостью перекидывалось с идеологии на сельское хозяйство, с химии на культуру. Попробуем же довериться наконец профессионализму тех, кто взялся за новую реформу. Лечиться надо у одного врача. В этот критический час пора поддержать то правительство, которое есть, и помочь обществу сплотиться вокруг него. Интеллигенция наша совершила, быть может, самый большой подвиг, когда тысячи людей, рискуя лишиться работы, попасть в тюрьму, переписывали, печатали, передавали из рук в руки сочинения самиздата и «тамиздата», стихи, романы, работы философов и политологов, осмысливавших нашу трагедию».
С. Кара-Мурза также доказывает, что интеллигенция играла значительную роль в создании и поддержании идейного хаоса с середины 80-х гг. своими дискуссиями, например на тему «общечеловеческих ценностей». Главные ценности (потребности, идеалы, интересы) людей якобы определяются этой единой для всех сутью и являются общечеловеческими. Раз так, значит, развитие разных человеческих общностей (народов, культур) приведет к одной и той же разумно отобранной из разных вариантов модели жизнеустройства. Иллюзия единства, всеобщей приверженности одним и тем же «естественным» ценностям демобилизовала сторонников советского строя. Они не могли признать и даже просто увидеть назревшего в обществе конфликта ценностей как разновидности социального конфликта [4].
Нестабильность политической и экономической ситуации и облегчение процедуры выезда привели к новой волне эмиграции из страны. Из трех составляющих этой волны эмиграции: «невозвращенцев», нового потока эмиграции деятелей науки и культуры в поисках свободы творчества и лучших условий для него, а также вынужденной эмиграции советских диссидентов, последние две часто сливались. Мотивы выезда видных деятелей советской культуры были сложными по составу: в них присутствовали и политические, и творческие, и экономические причины. Реже люди уезжали по собственному желанию, чаще – по требованию «оставить страну», исходившему от «компетентных органов».
Характерным явлением духовной жизни конца 1980-х гг. стало переосмысление истории советского периода. Еще раз нашла своеобразное подтверждение мысль о том, что в России непредсказуемо не только будущее, но и прошлое. А. Ципко предложил критическое осмысление ленинского идейного наследия и перспектив социализма, публицист Ю. Черниченко призывал пересмотреть аграрную политику КПСС. Ю.Н. Афанасьев организовал весной 1987 г. историко-политические чтения «Социальная память человечества», они имели отклик далеко за пределами московского Историко-архивного института, которым он руководил. А.С. Ципко, зная, что при советском строе имел место трудовой энтузиазм, моральное стимулирование и этот элемент советской системы нормально взаимодействовал с другими элементами, раздувает до масштабов всеобъемлющей, чуть ли не единственной сущности советской социально-экономической системы. Он пишет: «Разве не абсурд пытаться свести все проблемы организации производства к воспитанию сознательности, к инъецированию экстаза, энтузиазма, строить всю экономику на нравственных порывах души?.. Долгие годы производство в нашей стране держалось на самых противоестественных формах организации труда и поддержания дисциплины – на практике «разгона», ругани, окрика, на страхе» [5, c. 32].
Стали публиковаться документы, недоступные ранее даже специалистам. Наблюдался всплеск интереса к публицистическим произведениям и документальной прозе. Ослабление цензуры вызвало бурный поток публикаций на ранее запретные темы. Из печати, по существу, исчезли «запретные» темы. В историю вернулись имена Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева и многих других репрессированных политических деятелей. Были обнародованы никогда не публиковавшиеся партийные документы, началось рассекречивание архивов.
Важнейшей особенностью художественной ситуации 80-х гг. является возникновение мощного потока «возвращенной» художественной культуры. Российская общественность получила возможность открыть для себя сознательно изгнанные ранее из отечественной культуры имена и произведения, широко известные на Западе: лауреатов Нобелевской премии Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына, И. Бродского, а также В.В. Набокова, Э. Лимонова, В. Аксенова, М. Шемякина, Э. Неизвестного.
1980-е гг. – время сосредоточения творчества интеллигенции вокруг идеи покаяния. Мотив всеобщего греха, плахи заставляет прибегать к таким формам художественного образного мышления, как притча, миф, символ (фильм «Покаяние» Т. Абуладзе).
Ярким явлением в культуре этого времени стала так называемая деревенская проза, представленная творчеством таких писателей, как Ф. Абрамов, Б. Можаев, В. Белов, Е. Носов, В. Шукшин и др. В их произведениях исследуются нравственные вопросы, источники силы народного духа, взаимосвязь человека с природой, с историей своего народа – вечные проблемы, которые волновали людей всегда и которые с особой остротой ощущались обществом в рассматриваемый период [6, c. 55].
Таким образом, массовый читатель получил доступ к литературе, которая десятилетиями пряталась в спецхранах. За два-три года литературно-художественные журналы вернули читателям десятки произведений ранее запрещенных авторов. Граница между подцензурной литературой и «самиздатом» размывалась. Таким образом, мы видим, что поэты и писатели Москвы, Санкт-Петербурга приняли активное участие в публицистической деятельности, направленной на развенчание мифов о сталинском времени.
Члены Курского, Воронежского, Тамбовского отделений Союза писателей продолжают работать с традиционными темами, они не создали произведений, будоражащих общественность, но остались верны себе – они продолжали развивать сельскую тематику, темы покорения просторов нашей Родины, темы любви в жизни человека и, конечно же, тему войны и подвига простого советского человека.
Виктор Малыгин, автор очерковых книг о Дальнем Востоке, завоевал имя в литературе произведениями об освоении целины: «Даль степная» и «Подвиг на целине». Юрий Першин, автор трех поэтических сборников, раскрывает явления действительности с позиций историзма: от деревенских истоков до эпохи научно-технической революции, эмоционально и философски наполненно. В центре внимания Петра Сальникова – простой русский человек. О нем идет речь и в повести «Остаповские летописцы» (посвященной Л.Н. Толстому), и в произведениях о Великой Отечественной войне: «Братун», «Повесть о солдатской беде», «Горелый порох» – о безвестно павших; в повести «Никола Зимний, Никола Вешний», в рассказах автор делает попытку переосмыслить прошлое, пишет о ценности человеческой личности, о цене победы. Они отличаются психологической напряженностью, сочным, образным языком, яркими картинами природы.
Традиционные культурные ценности занимают ведущее место в работах Бориса Илешина – автор многочисленных изданий о культуре тамбовского края, о великих людях, связанных с Тамбовщиной: «…И голубые небеса», «Река золотых зорь», «Литературные тропинки отчего края» и др. Любовь к родине и черноземному краю красной нитью проходит в творчестве Ремизова Георгия Дмитриевича (1930–1991), писателя и журналиста, редактора, краеведа. Георгий Дмитриевич мечтал издать книгу «Страна березового ситца», но не успел. Отрывки из незаконченной рукописи печатались в тамбовских газетах.
Деревенская тематика со всей свой болью, но и в то же время традиционным укладом жизни звучит в лирическом повествовании «Деревня – боль моя и радость» С.А. Ля-шовой о своей малой родине, о земляках-калитвенцах.
Б.И. Осыков, белгородский писатель, в 1980–1990-е гг. писал об истории родного края, о ее литературных традициях, о людях, которые поднимали родной край в разные годы индустриализации, о жизни и творчестве актеров, артистов и музыкантов.
Анализ творчества провинциальной интеллигенции показал, что писатели и поэты благодаря своей деятельности старались сохранить те традиционные темы, которые были близки людям на протяжении советской истории, наполнив их современностью и обогатив духовный мир героев. У них не было цели в своем творчестве показать отрицание всей советской эпохи, и тем самым они оказались в нравственном плане выше тех перипетий и процессов, связанных с именами интеллектуальной элиты общества, которые впоследствии подорвали статус интеллигенции как хранителя духовных ценностей и ретранслятора культуры в обществе.
По многообразию творческих стилей, эстетических концепций, пристрастий к той или иной художественной традиции, культура конца 1980-х – начала 1990-х гг. напоминает начало XX в. в русской культуре. Отечественная культура как бы добирает несостояв-шийся естественный момент своего развития (спокойно пройденный западноевропейской культурой XX в.) и насильственно остановленный известными социальнополитическими событиями у нас в стране [7, c. 10].
В творчестве композиторов 1980–1990-х гг. создавался выразительный, полный глубоких философских смыслов звукообраз России, который раскрывал разные стороны ее культурного бытия в историческом прошлом и в ХХ в.
Проникновенные духовные песнопения создавал в конце своего жизненного пути и такой крупный мастер отечественной музыкальной культуры, как Г.В. Свиридов (1915–1998). Г.В. Свиридов немало размышлял о подлинной духовности русской культуры и русской музыки. Особенно его привлекала русская философская мысль, которую он воспринимал как «думу», «мучительную мысль», «национальную мысль» [8].
Композиторы и музыканты Центрального Черноземья в годы «перестройки» работают в традиционном для себя направлении – не только создают произведения, но и заняты просветительской деятельностью – работой в клубах, авторскими и тематическими вечерами, встречами в гостиной, проведением масштабных всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, выпуском музыкальных телефильмов, радиопередач и фонографических записей, рекламной и музыкально-критической продукции.
Широко используются возможности для проведения совместных с другими творческими организациями мероприятий. В Доме композиторов в Воронеже проводились пушкинские, кольцовско-никитинские, бунинские, мандельштамовские, ахматовские и цветаевские вечера, собрания Толстовского и Бунинского обществ, музыкально-театрализованное представление на музыку Е. Ткачевой и стихи И. Бродского («Люблю») и на музыку М. Щу-рика по мотивам М. Шагала («Скрипач на крыше»). Здесь же устраивались экспозиции живописных работ, например, В. Шпаковского и его студентов, А. Смирнова и воспитанников руководимой им школы изобразительного искусства, В. Знаткова, Л. Петровой и Л. Резниковой (каждый раз звучала музыка, навеянная живописными полотнами).
Казалось, что в начале 1990-х Россия в очередной раз за свою историю подошла к краю культурного небытия. И как всегда бывает в подобных ситуациях, под основной удар попала творческая интеллигенция. Тамбовский Союз художников замер. Именно в этот критический период в Тамбове проходит ряд групповых выставок молодых художников, среди которых знаковой можно считать «Меру меда», открывшуюся в 1993 г. в залах Тамбовской областной картинной галереи. Молодежная выставка имела громкий успех. На ней были представлены работы пятерых тамбовских художников Андрея Бубенцова, Алексея Медведева, Александра Тормосова, Владимира Мягкова, Андрея Щербакова. Для Тамбова это было нечто новое в тот момент, был напечатан каталог работ, проведен аукцион. Выставка трансформировалась в объединение группы художников «На Крыше», одним из организаторов которого стал А.Л. Бубенцов.
Образы, будничная жизнь и праздники российской деревни нашли яркое и разнообразное отражение в полотнах тамбовских живописцев. Тематические картины от исторических отличает ряд моментов. В Тамбове тематические размышления нашли свое отражение в творческих поисках ряда живописцев Б.М. Ольшанского, О.А. Гущина, Ю.И. Киселева, А.Л. Бубенцова, О.В. Красковой, В.И. Колесникова.
Актеры и режиссеры, занятые постановкой спектаклей в годы позднеиндустриальной модернизации также оказались на перепутье: перед ними стоял вопрос: отдать предпочтение «возвращенным» пьесам или заняться постановкой классики. Исследованные материалы свидетельствуют о широком использовании в театральных сезонах классического наследия русской культуры, сохранении выдающихся музыкальных и театральных актерских школ. Но, как и прежде, материальные проблемы соседствовали с духовными.
Творческая интеллигенция все чаще и чаще начинает появляться на экранах телевизоров, используя этот канал для общественного резонанса. В числе открывавшихся в то время телепередач были и передачи, в которых обсуждались темы политики. Причем они не были абсолютно «гладкими». Обсуждались не только позитивные с точки зрения действовавшей в то время власти вопросы и не только с положительной стороны, но и негативные стороны различных явлений, да и полностью негативные проблемы. Появились и телепередачи, рассказывающие о жизни простых рабочих людей. И опять же в них говорилось не только о хороших элементах человеческой жизни, но и о не совсем приятных. Не все, конечно, стало сдвигаться только в лучшую сторону. Некоторые довольно популярные и любимые народом телепрограммы были закрыты в годы перестройки.
Поскольку представители творческой интеллигенции активно участвовали в работе средств массовой информации, особенно литераторы, то для изучения роли провинциальной интеллигенции в модернизационных перестроечных процессах также важно показать ее участие в региональной прессе. В этот период провинциальной интеллигенции, продолжавшей свою работу в средствах массовой информации, принадлежала ведущая роль в смене политических ориентиров населения страны. Одновременно через средства массовой информации под руководством партийного аппарата осуществлялось разъяснение сути проводимых в стране преобразований.
Неудовлетворенность руководством страны в начале 1990-х гг., реформами в экономике и общественно-политической жизни передалась интеллигенции. Часть творческой интеллигенции потребовала отставки М.С. Горбачева, часть «заклеймила позором идейных вдохновителей путча», часть пошла по пути сотрудничества с новой властью в целях поддержки нового модернизационного курса [9, c. 16]. Члены Воронежской писательской организации отмечают, что «сейчас многое изменилось в худшую сторону. Бедность. Упал качественный и количественный уровень рукописей». Их вера оказалась подорвана – власть не нуждалась в их поддержке, о чем и было заявлено на Конгрессе интеллигенции 28 ноября 1992 г., на котором присутствовали представители творческой интеллигенции и виднейшие политические деятели. По мнению Ю. Рыжова, присутствовавшего на конгрессе, «интеллигенции сейчас необходимо остановиться и подумать, отрешившись от сиюминутных политических проблем» [10]. С этого времени произошла окончательная смена ценностных приоритетов творческой интеллигенции, которая пошла в СМИ, масс-медиа, никак не связывая свою деятельность с идеями переустройства России.
Ссылки:
-
1. Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М., 2011. С. 61.
-
2. Лихачев Д. Я вспоминаю. М., 1991. С. 228.
-
3. Известия. 19 декабря. 1991.
-
4. Кара-Мурза С. Потерянный разум. Интеллигенция в перестройке: отход от норм рационального мышления [Электронный ресурс]. URL: http://polbu.ru/karamurza_lostmind (дата обращения: 05.03.2014).
-
5. Фурсов А.И. Мифы перестройки и мифы о перестройке. Социологические исследования. 2006. № 1. С. 31–36.
-
6. Кузьмина В.М. Деятельность творческой интеллигенции в условиях позднеиндустриальной модернизации
(1985–1991 гг.) // Перспективы науки. 2011. № 18. С. 55–57.
-
7. Кузьмина В.М. Некоторые аспекты участия творческой интеллигенции в индустриальной модернизации
страны (1921–1992 гг.) // Вестник гуманитарного научного образования. 2012. № 4–1 (18). С. 9–12.
-
8. Девятова О.Л. Образ России в музыке советского периода (1980–1990-е гг.) // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 15. 2008. № 55.
-
9. Панченко А.М. Не хочу быть интеллигентом // Московские новости. 1991. 15 декабря. С. 16.
-
10. Соколовский В. Интеллигенты решили самоопределиться в класс // Коммерсант. 1992. 28 нояб.