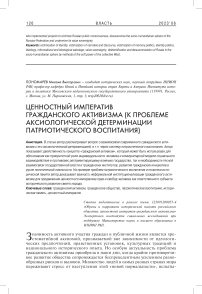Ценностный императив гражданского активизма (к проблеме аксиологической детерминации патриотического воспитания)
Автор: Пономарев М.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает вопрос о взаимосвязи современного гражданского активизма с его аксиологической детерминацией, в т.ч. через систему патриотического воспитания. Автор показывает двойственность концепта «гражданский активизм», который может быть использован для обоснования как приоритетной роли индивидуальности человека и коммунитарной модели социального взаимодействия в противовес регламентирующему влиянию государства, так и необходимости тесной взаимосвязи государственной власти и гражданских институтов, развития гражданских инициатив в русле политической лояльности. На примере проблем патриотического воспитания и политики исторической памяти автор доказывает важность неформальной институционализации гражданского активизма для продвижения ценностного императива прав и свобод человека как ответственного субъекта исторического развития своего народа.
Гражданский активизм, гражданское общество, патриотическое воспитание, историческая память, ценностный императив
Короткий адрес: https://sciup.org/170200676
IDR: 170200676 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9867
Текст научной статьи Ценностный императив гражданского активизма (к проблеме аксиологической детерминации патриотического воспитания)
Значимость активного участия граждан в публичной жизни является хрестоматийной аксиомой, признаваемой вне зависимости от идеологических предпочтений, нравственных установок, культурных традиций и национального исторического опыта. Но особую актуальность проблема гражданского активизма приобрела в наши дни, когда крайне противоречивое развитие общества сопровождается беспрецедентным усилением разнообразных рисков и вызовов. Множество людей в самых разных странах мира переживают стресс от наступления этой «новой нормальности», испыты- вают чувство отчуждения, несправедливости, утраты доверия к институтам и лидерам [Schwab, Malleret 2020: 117]. Эти явления имеют фундаментальные причины, связанные с деформацией самой исторической социальности общества. Провоцируются они и политической конъюнктурой, медийной повесткой дня, образами и нарративами информационных войн. В итоге возникает опасность деградации самой культуры гражданского активизма, размывания ее между Сциллой протестного экстремизма и Харибдой циничного нигилизма. Тем острее встает вопрос о формах и методах продвижения и институционализации позитивных форм гражданского активизма, способных консолидировать общество. В полной мере это относится и к задачам патриотического воспитания.
Общепризнано, что развитие гражданского активизма и его институционализация неразрывно связаны с демократизацией всех сфер общественной жизни, в т.ч. с расширением роли гражданских институтов, предоставлением гражданам широкого спектра возможностей оказывать влияние на процессы принятия и реализации политических решений. При этом демократическая организация общества не только служит предпосылкой роста гражданского активизма, но и во многом является результатом этого процесса, т.е. «качество» демократии напрямую зависит от инициативного вовлечения граждан в социально-политическое пространство. В то же время следует отметить, что сам концепт «гражданский активизм» обладает определенной смысловой двойственностью и даже провокативностью.
Гражданский активизм можно воспринимать как одно из наиболее ярких проявлений активной жизненной позиции, в основе которой лежит тот комплекс мировоззренческих, моральных и мотивационных установок, когнитивных, коммуникативных и поведенческих моделей, который очерчивает персональность человека и обеспечивает взаимосвязь между его личностным развитием и социализацией. Человек, обладающий активной жизненной позицией, склонен к инициативному участию в самых разнообразных формах социального взаимодействия. Он с относительной легкостью выходит за пределы своей приватной зоны и ценит возможность совместных усилий по решению тех или иных проблем. Но если отправной точкой такого активизма является именно индивидуальность человека, построение им собственной жизненной траектории, опора на свой опыт принятия решений, характерные для него мировоззренческие максимы и привычные поведенческие паттерны, то возникает парадоксальная ситуация: чем глубже интеграция человека в систему гражданского взаимодействия, тем важнее для него сохранение и продвижение своей личной жизненной позиции, а любое стороннее вмешательство в этот процесс оказывается скорее негативным фактором. Примером такого противоречия является вопрос, нередко обсуждаемый в контексте проблематики патриотического воспитания: если в основе патриотизма лежит любовь к Родине, т.е. весьма интимное духовное состояние человека, то может ли патриотизм восприниматься как «образ нормативного поведения» [Гармаев 2013: 124] и быть предметом целенаправленного идеологического воздействия на человека?
С другой стороны, гражданский активизм можно рассматривать как системную характеристику гражданского общества, а не индивидуальную модель повеления, соотносить его с развитием разнообразных форм межличностного взаимодействия, свободных ассоциаций и открытых комьюнити, гражданских инициатив и коммуникативных площадок. Понятый таким образом гражданский активизм предполагает не столько самовыражение человека, сколько поиск ценностного консенсуса с окружающими, включение в интерактивные социальные практики и, как следствие, сочетание собственных жизненных приоритетов с социальной ответственностью и солидарностью. Тем самым, активная гражданская позиция человека формируется именно благодаря его социальным связям. Но при этом речь идет о связях, которые позволяют реализовать индивидуальный потенциал человека и связаны с его личностным развитием (что и выступает залогом инициативной активности гражданина). Отсюда практически прямое противопоставление гражданского общества государству: государство воспринимается как институциональная и нормативная система общественных отношений, основанная на императивных правилах, принципах и требованиях, тогда как гражданское общество ассоциируется с «правом свободно принимать решение» и определяется как «все, что не связано с государством» [Гуторов 2015: 50]. В радикальном варианте эта дихотомия становится основой для антиэтатистского дискурса, который может стать источником нигилистических, протестных и даже экстремистских настроений. Примером такого провокативного дискурса можно считать скептическое отношение к «государственническому» патриотизму как «подмене любви к Родине лояльностью по отношению к государству» (в духе известного афоризма С. Джонсона: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя» [Степанищев, Хасанов 2018: 104]).
Неолиберальная парадигма, сформировавшаяся во второй половине ХХ в., закрепила представление о том, что преодолеть все эти противоречия можно с помощью последовательной демократизации общества и государства. В первую очередь речь идет о включении разнообразных форм партиципа-ции (участия) граждан в режим функционирования политических институтов, обеспечении состязательности электорального процесса и идеологического плюрализма, последовательной реализации принципа разделения властей и превращении СМИ в «четвертую власть», об использовании низовых форм демократии как системы самоуправления и саморегулирования. Эффективность таких коммунитарных механизмов может быть достаточно высока, а по мере становления информационного общества они приобретают второе дыхание в своем развитии [Гаврилова, Ильин 2021: 97-98]. Однако столь же очевидно, что их эффективность резко снижается в условиях «институциональной коррозии» демократической государственности – нарастания абсентеизма, бюрократизации, коррупции, манипулирования общественным мнением [Пономарев 2017]. Еще большей проблемой становится разрушение ценностного консенсуса в самом гражданском обществе, которое проявляется в кризисе национальной идентичности, обострении конфликта поколений, усилении противоречий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В такой ситуации уровень гражданского активизма даже возрастает, но сам активизм все в большей степени носит партикулярный характер, что может только усилить внутренний разлад в обществе и стать препятствием на пути общенациональной консолидации. Возрастают и риски протестного гражданского активизма, который напрямую противопоставляется институциональной организации общества как более естественная, свободная форма социального поведения.
Кризис демократии как коммунитарной модели организации общества превращает тему гражданского активизма в предмет острых дискуссий. В многочисленных публикациях на эту тему прослеживаются три основных вектора. Первый связан с обсуждением специфики развития гражданского активизма в условиях информационного общества, его сетевой социальной организации и коммуникативной архитектуры. Эти тенденции не только служат дополнительным фактором гражданской активности, но и существенно меняют, варьируют ее формы. Появляются такие характерные понятия, как «цифровой активизм», «сетевой активизм», «локальный активизм», «визуальный активизм» [Парма 2021: 145]. В то же время следует признать, что сами по себе новые инструментальные возможности гражданского активизма совершенно не решают вопрос о его ценностном наполнении. Более того, они даже обостряют проблему институционализации гражданского активизма в системе отношений «человек – общество – государство», поскольку создают возможности для продвижения в информационно-коммуникативном поле совершенно разнообразных жизненных позиций, включая совершенно контрпродуктивные и даже экстремистские.
Два других вектора в полемике о современном гражданском активизме, напротив, опираются именно на представление о его необходимой смысловой направленности. С одной стороны, сохраняется традиция восприятия гражданского активизма сквозь призму антиэтатистских идеалов. Такая позиция максимально сближается с правозащитным дискурсом и акцентирует важность обеспечения права человека на самостоятельный выбор ценностных приоритетов и поведенческих решений. Со всей остротой эти вопросы встали в период борьбы с последствиями пандемии COVID -19, когда дискуссия об обязательных прививках послужила триггером для обсуждения границ, разделяющих приватное и публичное пространство жизнедеятельности человека. Но дальнейшие события фактически вытеснили антиэтатистский дискурс на периферию общественного внимания и дали толчок продвижению альтернативного понимания роли и задач гражданского активизма. В рамках этой позиции отрицается связь гражданского активизма с приоритетом приватных интересов человека и тем более бинарное восприятие гражданского общества и государства. «Третий путь» в развитии гражданского общества сторонники этой позиции видят в максимальном сближении государственной власти и гражданских институтов, представители которых выступают в роли «лоялистов, но не апологетов, активистов, но не неформалов» [Шатилов 2023: 13]. Особую роль в продвижении такой интерпретации гражданского активизма играет тема патриотизма и патриотического воспитания, развиваемая в русле органической, а не коммунитарной модели национального развития.
Современная повестка дня, связанная и со спецификой задач, стоящих перед российским обществом, и с общемировыми тенденциями, не оставляет сомнений в закате антиэтатистского дискурса. Однако прямое сращивание институтов гражданского общества и государства, трансформация гражданского активизма в «мобилизационную» поведенческую модель несут с собой и немалые риски. Наглядным примером является длительная эпопея, связанная с разработкой законопроекта «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», зарегистрированного в Государственной думе РФ в 2017 г. и окончательно отклоненного в марте 2023 г.1 В законопроекте патриотизм определялся, в частности, как стремление и готовность «подчинить свои частные интересы интересам своего народа», хотя патриотическое воспитание соотносилось с «развитием личности, созданием условий для самоопределения и социализации граждан». Основанием для отклонения законопроекта стало не только «отсутствие правового механизма регулирования вводимого проектом федерального закона понятийного аппарата», но и признаки чрезмерного государственного регулирования в данной сфере общественных отношений.
Очевидно, что такое императивное «нормирование» гражданского активизма может не только создать институциональные противоречия, но и выхолостить саму его сущность, связанную с социальным творчеством человека, раскрытием его личностного потенциала. В то же время следует признать, что в современных условиях остро необходимо использовать потенциал гражданского активизма для общенациональной консолидации, закрепления новых форм конституционной идентичности, преодоления партикулярных тенденций в самых различных сферах общественной жизни. Для решения этих задач принципиальное значение имеет формирование целостной системы моральнонравственных и знаково-символических категорий, концептов и образов, выступающих в качестве ценностного императива гражданского активизма в современном российском обществе.
Принципиально важным шагом в этом направлении стал указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»1. Однако гражданский активизм не может и не должен быть лишь результатом скоординированной государственной политики. Раскрытие его потенциала напрямую зависит от взаимосвязи социальной активности человека и развития его личностной структуры. Поэтому ценностный императив, призванный превратить активность граждан в фактор общенациональной консолидации, должен быть концептуализирован именно на уровне личностного самоопределения. В качестве примера можно привести такой важный аспект современной политики идентичности, как сохранение исторической памяти. Именно историческая память выступает тем консолидирующим общество фактором, который способен воссоздать ценностный императив гражданского активизма в его солидарных формах и культурно-историческом (цивилизационном) содержании, а не в пространстве индивидуальных жизненных траекторий и договорного гражданского взаимодействия. Неслучайно необходимость защиты исторической правды закреплена даже в качестве конституционного принципа. Однако ни борьба с фальсификаций истории, ни создание единого государственного учебника, ни разнообразные культурно-просветительские проекты не могут быть достаточной основой для формирования «живой» исторической памяти как фактора гражданского активизма. Для этого требуется превращение человека в подлинного соавтора истории своего народа. Приоритетом в восприятии истории должно быть не изучение прошлого, а развитие исторического мышления, основанного на императивах ответственности за будущее. В таком контексте любая ситуация жизненного выбора становится соразмерной с поступком, имеющим высшее ценностное значение: реализация права быть собой, оказывается, тесно связана с правом быть частью исторического движения своего народа.
Таким образом, неформальная институционализация гражданского активизма предполагает не только вариативность его форм и стимулов, но и последовательную аксиологическую детерминацию, основанную на ценностном восприятии свободного жизненного выбора человека в пространстве исторического бытия своего народа. С этой точки зрения, именно жизнь и досто- инство человека, его права и свободы, лежащие в основе гражданского активизма, являются базовым компонентом традиционных ценностей общества. И именно такой ценностный императив должен стать основой современного патриотического воспитания.
Список литературы Ценностный императив гражданского активизма (к проблеме аксиологической детерминации патриотического воспитания)
- Гаврилова Ю.В., Ильин Н.С. 2021. К вопросу о важности цифровизации демократии: анализ зарубежного опыта. - Образование и право. № 12. С. 97-101. EDN: GIHWTP
- Гармаев Б.Б. 2013. Природа патриотизма и формы его проявления. - Вестник Бурятского государственного университета. № 6. С. 120-124. EDN: QAOPSV
- Гуторов В.А. 2015. Гражданское общество и теория демократии: из наследия ХХ в. - Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Политология. № 1. С. 50-60. EDN: TIWDAH
- Парма Р.В. 2021. Содержание современного гражданского активизма. - Власть. Т. 29. № 2. С. 141-147. EDN: AMHZUG
- Пономарев М.В. 2017. Кризисные тенденции в сфере конституционно-правового регулирования основ государственного строя: "вызовы современности". - Права человека в изменяющемся мире: материалы международной конференции. М.: Изд-во МосГУ. С. 56-62. EDN: WUVOKS
- Степанищев А.Т., Хасанов Р.Ш. 2018. К вопросу о патриотизме и гражданственности. - Армия и общество. № 1(50). С. 98-108.
- Шатилов А.Б. 2023. Гражданское общество в России: третий путь. - Власть. Т. 31. № 4. С. 9-14. EDN: HVARLP
- Schwab K., Malleret T. 2020. COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing. 280 р.