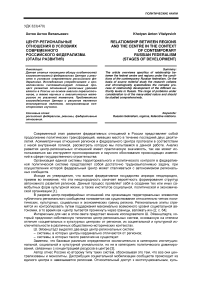Центр-региональные отношения в условиях современного российского федерализма (этапы развития)
Автор: Хотян Антон Витальевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена обзору особенностей взаимоотношений федерального Центра и регионов в условиях современного российского федерализма. Исследование упорядочивает и хронологически систематизирует сложный процесс развития отношений различных уровней власти в России на основе анализа первоисточников, а также научных и аналитических материалов по указанной тематике. Проблематика взаимодействия Центра и регионов является многогранным явлением, заслуживающим всестороннего изучения.
Российский федерализм, регионы, федеративные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14935038
IDR: 14935038 | УДК: 323(470)
Текст научной статьи Центр-региональные отношения в условиях современного российского федерализма (этапы развития)
Современный этап развития федеративных отношений в России представляет собой продолжение политических трансформаций, имевших место в течение последний двух десятилетий. Асимметричные отношения регионов и федерального Центра протекали в соответствии с некой внутренней логикой, рассмотреть которую мы попытаемся в данной работе. Анализ развития центр-региональных отношений имеет практическую значимость, так как может использоваться как инструмент прогнозирования и научного обоснования происходящих изменений в сфере государственного строительства.
Организация единой системы территориального и политического контроля в федеративной политической системе представляет собой достаточно трудновыполнимую задачу, при осуществлении которой федеральный Центр может сталкиваться с автономизмом региональных сообществ.
Исходя из утверждения, что всякое федеративное государство априори неоднородно, примем во внимание, что эта неоднородность означает вероятность формирования структур автономного развития регионов. Данный процесс проявляет себя в создании тех или иных самобытных форм культурной жизни, а также институтов социальной, политической и экономической организации [1].
В разрезе центр-периферийных отношений эта организация территориальных элементов публичного регионального сообщества понимается как существование относительно четких политических, культурных, социальных и экономических границ региона. Региональные элиты стремятся их контролировать путем поддержания максимально возможного уровня социетальной автономии, в то время как «центр пытается проникнуть через границы, взломать их» [2, с. 64].
Интересным для нас в этом свете предстает мнение исследователя Ш. Эйзенштадта, который предложил собственную типологию центр-региональных систем, основанную на степени отличия «социетальных и культурных центров» от регионов, их социетальной и культурной исключительности в различных общественно-исторических контекстах.
Ш. Эйзенштадт выделял два вида центр-региональных систем:
– системы, в которых центры кардинально отличаются от регионов;
– системы, в которых такого различия не существует.
Заметим, что базовые различия определяются исключительно в категориях институциональной, социальной и культурной уникальности, но не в категориях политического доминирования, связанных с концентрацией ресурсов в центре [3].
Автор отнес Россию ко второму типу таких систем, обосновывая это тем, что все они централизованы и монолитны. Дистрибуция социетальной мобилизации сообществ происходит из единого центра и навязывается регионам. Относительный доступ к институциональным, куль- турным паттернам и моделям стратификации в центре не означает, что регионы имеют доступ и к материальным или политическим ресурсам, которые могли бы дать ей оперативную возможность повысить уровень своей автономизации и усилить контроль над границами соответствующих сообществ [4].
Следует учитывать, что устойчивость жесткого централизованного контроля зависит от доступности ресурсов, необходимых для того, чтобы поддерживать границы регионов в постоянно «разрушенном» с точки зрения идентичности состоянии. Тактики, используемые в условиях такого режима достаточно дорогостоящие. Более того, необходим определенный уровень институциональной компетентности и консолидации элит в центре. Ослабевание этих факторов неминуемо ведет к дезинтеграции на региональном уровне. В подобных случаях федеральная власть оказывается в положении, когда для поддержания собственной легитимности и жизнеспособности требуется реконсолидация элитных групп в федеральном Центре, что выливается в новую волну централизации и подавления региональной активности.
Подобная цикличность является отличительной чертой российской истории [5]. Период централизации во время позднего советского государства постепенно сменился периодом дезинтеграции и децентрализации в начале 1990-х гг. Во время кризиса монолитной советской системы структуры административного и элитного взаимодействия стали основным ресурсом для повышения уровня политической автономии регионов и выстраивания системы контроля региональных границ. Логично, что дробление российского политического пространства позволило именно элитным региональным субъектам «отвоевать» право управления социетальными ресурсами регионов и сделало их важнейшими игроками на поле центр-региональных и межрегиональных отношений. Так появилась система, которую Р. Саква справедливо назвал «сегментированным регионализмом» [6].
Вторым этапом реформации российского политического пространства стала рецентрализация, что проявилось в первую очередь в том, что в системе центр-региональных отношений вновь возобладала политическая элита Центра. Достичь этой цели удалось в ходе демонтажа системы двухсторонних договоров между регионами и Федерацией, унификации правового пространства и приведения в соответствие с федеральной Конституцией, централизации бюджетов и административного контроля [7].
Произошедшее усреднение в правах регионов требовало серьезной реструктуризации формальных институтов их власти. Изменения, в первую очередь, коснулись института глав регионов, а также механизмов надзора за органами администрации и региональными представительными органами. Ключевую роль сыграли такие шаги, как реорганизация механизма формирования Совета Федерации, интенсивное создание федеральных округов, значительное усиление института федеральных инспекторов в регионах. Начиная с 2004 г. ушли на несколько лет из практики прямые выборы губернаторов, что было весьма показательным решением Центра в вопросах подавления самостоятельности регионов и противодействии региональному автономизму, где одним из самых эффективных инструментов «взлома» региональных идентификационных границ и отчуждения институциональных ресурсов в регионах, на наш взгляд, стала обновленная партийная система, которая была основана на господстве партии власти «Единая Россия» [8].
Появление партии «Единая Россия» позволило Центру привнести в политическую жизнь регионов общенациональное измерение, что является наиболее успешным механизмом размывания социетальных границ региона.
Внедрение партии власти в регионы сопровождалось значительными изменениями федерального и регионального законодательства, определяющего как избирательный процесс в регионах в целом, так и порядок избрания и работы региональных представительных органов. Ключевое значение в данной схеме имело повышение роли региональных представительств партии власти в новом механизме назначения глав регионов [9].
Схожую картину развития федерализма в конце XX – начале XXI в. видит и Н. Панкевич, выделяя по сути три периода реформации новейшего российского федерализма, указывая на условность их временного разделения.
Первый этап (ориентировочно 1990–1992 гг.) связан с жесткой конкурентной политической борьбой за ресурсы между федеральным Центром и региональными элитами.
Для второго этапа федеративных изменений в современной России (1993–1998) были характерны слабая вертикальная интеграция региональных элит и незначительное взаимопроникновение разных типов элитных группировок.
Расслоение и функциональное усложнение федеральной и региональных элит, разделение политической и административной элит, а также интенсивное формирование самостоятельной экономической элиты в ходе приватизации, четкое осознание всеми акторами центр-регионального взаимодействия различности федеральных, региональных и местных интересов стали основными маркерами и последствиями второго периода. Огромное значение получили «договорные практики», благодаря которым происходили существенные дополнения к имею- щейся федеративной модели. Так, благодаря этим договорам, некоторые регионы (такие, как Татарстан, Башкортостан или Якутия) добивались существенных послаблений в части налогообложения [10, с. 148]. Таким образом, данная модель федерализма оказалась крайне асимметричной, а постоянно корректируемые полномочия и правила затрудняли стабильное функционирование экономической и политической системы.
Третий этап (1999) по своим характеристикам определенно стремится к модели федерализма, связанной с подавлением всех признаков суверенитета, полученных региональными элитами. Происходят процессы вертикальной интеграции элитных групп, инициирующие усиление федеральной элиты и встраивание региональных элитных групп в различного рода подведомственные федеральному центру иерархии. Слияние элит сопровождается их взаимопроникновением и иерархическим контролем, в том числе, через организации так называемой «партии власти», при главенствующей и определяющей роли административной государственной элиты [11].
Важное значение в центр-региональных отношениях также приобретают способы сосредоточения бюджетных средств. Так, центр формирует и закрепляет вертикальный дисбаланс финансовой системы, при которой собственные источники дохода регионов, включая налоговые поступления и доходы от управления экономическими ресурсами, не являются достаточными для осуществления расходных полномочий, даже в их обязательной части. Происходит формирование системы, которая лишает большую часть субъектов РФ экономической самостоятельности, а доходная часть региональных бюджетов на 30–40% состоит из федеральных субвенций и дотаций [12]. Таким образом, увеличение финансовой асимметрии становится средством усиления федеральной элиты, осуществляемым при сохранении значительного регионального экономического неравенства.
В данной системе для центра облегчается задача взаимных конвертаций статусов и должностей в различных элитах, обращение которых при относительной экономической самостоятельности регионов вызывало бы трудности. Взаимоотношения участников описанной федеративной модели упрощаются ввиду их слияния в единую, относительно монолитную и иерархически структурированную властную элиту. Н. Панкевич уделяет особое внимание тому, что «интенсивная межэлитная диффузия, совмещение и интеграция функциональных элит создает все условия для вырождения федеративных моделей» [13].
На наш взгляд, отношения между общегосударственной системой, называемой в работе «Центром», и региональными составляющими федерации, являются динамическим непрекра-щающимся процессом, управление которым есть важная задача в сфере государственного строительства и позитивного центр-регионального взаимодействия. Приведенная в статье логика разворачивания отношений Центра и регионов самодостаточна, однако, может быть дополнена важными, на наш взгляд, замечаниями.
Так, уже сейчас мы видим некоторые шаги в направлении создания условий для более развитого диалога между Центром и регионами. Указанные в статье резко централизационные меры середины 2000-х гг., связанные с выстраиванием «вертикали власти», как упразднение прямых выборов губернаторов, претерпевают изменения, что может быть основанием для дальнейшего накопления их потенциала и начала кардинально нового этапа взаимоотношений. Восстановление прямых выборов губернаторов есть, по нашему мнению, доказательство устремленности Центра укреплять регионализм, превращая его политический потенциал из угроз в возможности роста развивающейся российской государственности.
Ссылки:
-
1. Кинг П. Классифицирование федераций // Полис (Политические исследования). 2000. № 5. С. 6–18.
-
2. Гончаров Д.В. Структура территориальной политики в России // Полис. 2012. № 3. С. 63–74.
-
3. Eisenstadt S. Cultural Orientations and Center-Periphery in Europe in a Comparative Perspective / ed. by P. Torsvik // Mobilization, Center-Periphery Structures and Nation-Building: A Volume in Commemoration of Stein Rokkan. Bergen; Ir-vington-on-Hudson, N.Y., 1981.
-
4. Ibid.
-
5. Rowney D. Center-Periphery Relations in Historical Perspective: State Administration in Russia / eds. by P. Stavrakis, J. DeBardeleben, L. Black // Beyond the Monolith. Washington, D.C.; Baltimore, 1997.
-
6. Sakwa R. Putin: Russia's Choice. L.; N.Y., 2004.
-
7. Гончаров Д.В. Указ. соч. С. 70.
-
8. Гончаров Д.В. Политические партии в Оренбургской области / редкол. Н. Петров, А. Титков // Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник. М., 2010.
-
9. Гончаров Д.В. Структура территориальной … С. 73.
-
10. Панкевич Н.В. Модели федеративного устройства: закономерности политической трансформации. Екатеринбург, 2008. 194 с.
-
11. Гончаров Д.В. Структура территориальной … С. 180.
-
12. Панкевич Н.В. Указ. соч. С. 171.
-
13. Там же.