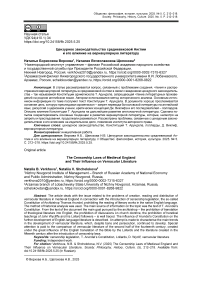Цензурное законодательство средневековой Англии и его влияние на вернакулярную литературу
Автор: Верхова Н.Б., Щелокова Н.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос, связанный с проблемами создания, чтения и распространения вернакулярной литературы в средневековой Англии в связи с введением цензурного законодательства – так называемой Конституции архиепископа Т. Арундела, запрещающей чтение литературных произведений на родном английском языке. Автором использовался метод исторического анализа. Основным источником информации по теме послужил текст Конституции Т. Арундела. В документе хорошо прослеживается основная цель, которую преследовал архиепископ – запрет перевода богословской литературы на английский язык, дискуссий о церковном учении, еретических концепций Дж. Виклифа и его последователей – лоллардов. Описано влияние Конституции Т. Арундела на дальнейшее развитие англоязычной литературы. Сделана по- пытка охарактеризовать основные тенденции в развитии вернакулярной литературы, которые, несмотря на запреты и преследования, продолжали развиваться. Рассмотрены проблемы, связанные с цензурным законодательством и его влиянием на издательское дело, появление института авторского права.
Цензурное законодательство, Конституция Т. Арундела, лолларды, Д. Виклиф, вернакулярная литература
Короткий адрес: https://sciup.org/149147967
IDR: 149147967 | УДК: 94(410.1):34 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.25
Текст научной статьи Цензурное законодательство средневековой Англии и его влияние на вернакулярную литературу
Нижний Новгород, Россия, , 2Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия, ,
Введение . Цензура является одной из актуальнейших тем, возникших в последнее время при изучении движения лоллардов в Англии. Наше внимание в данном случае обращено к цензурному законодательству Англии и в особенности – к Конституции архиепископа Т. Арундела, обнародованной в 1409 г., которая являлась «наиболее явным и драконовским цензурным законодательством в период между осуждением виклифитских идей в 1382 г. и строгими ограничениями, введенными законом в 1530-х гг.» (Simpson, 2005: 387).
По мнению Н. Уотсона, «необычайный расцвет в конце XIV в. английской вернакулярной теологии был эффективно подавлен конституциями, которые требовали, чтобы никто не спорил о таинствах Церкви; чтобы никто не переводил Писание на английский язык; чтобы никто не оспаривал истинность церковного законодательства и чтобы никто не утверждал ничего, противоречащего добрым нравам, даже если такое утверждение может быть защищено определенной искусностью слов или терминов»1. И действительно, Конституция, несомненно, изменила и формирование, и создание богословской литературы на вернакулярном языке, пока новая конъюнктура 1530-х гг. не потребовала иного набора официальных ответов.
Конституция Т. Арундела хорошо известна исследователям движения лоллардов, но ее можно рассматривать также и как попытку ограничить религиозные дискуссии, особенно на разговорном языке, так как известно, что именно виклифиты во время своей работы над переводом Библии создали тот разговорный язык, который англичане использовали до эпохи Шекспира (Ще-локова, 2018).
В данной статье мы преследовали цель не только рассмотреть и охарактеризовать данный документ, но и проследить его влияние на дальнейшее развитие английской литературы и цензурного законодательства в позднее средневековье.
Конституция Т. Арундела . Конституция была издана архиепископом Т. Арунделом в 1409 г. и явилась завершающим этапом систематической кампании противодействия лоллардам. Используя активные выступления против лоллардов в парламенте, Т. Арундел решил, по мнению Е.В. Кузнецова, сосредоточить свои усилия против Оксфордского университета. Профессора этого учебного заведения еще в 1406 г. открыто выразили поддержку виклифизма (Кузнецов, 2011: 181).
Сама Конституция2 состоит из ряда статей, которые устанавливают новые правила для различных аспектов проповеднической и преподавательской жизни церкви в целом и Оксфордского университета в частности. Статьи законодательства являются свидетельством того, насколько подробным и широкомасштабным, по мнению Т. Арундела, должно было быть его наступление: «Considering and lamenting how our almous university of Oxford, which like a thriving vine used to spread her branches to the honour of God and the advancement and protection of His Church, is in part degenerated and brings forth sour grapes, by eating whereof many of her sons, being too well conceited of their knowledge in the law of God, have set their teeth on edge, and our province is infected with new unprofitable doctrines, and blemished with the new damnable brand of Lollardy…»3.
Пункт 11 был полностью посвящен Оксфорду и содержал информацию о необходимости борьбы с ересью, включая регулярные ежемесячные проверки «настроений умов» студентов и преподавателей его колледжей.
Конституция предусматривала строгие меры для нарушителей: «But if the wardens, rectors, provosts or principals themselves are suspected, defamed or detected, for and concerning such conclusions or propositions, or as defenders, maintainers or supporters of them, if upon an admonition from us, or by our authority, or by the ordinary of the place, they do not desist, let them be deprived in law from that time forward of all scholastic privileges of the university aforesaid, and of the right which they had in the said college, hall or inn, beside other punishments above-mentioned, and farther incur the sentence of the greater excommunication4».
В университетах была создана цензурная комиссия, известная как «Комитет 12». Таким образом, Оксфордский университет оказался под контролем архиепископа.
В соответствии с церковными постановлениями 1407–1409 гг. епископы получили право на вынесение приговоров о вечном заточении для тех, кто был обвинен в ереси. Над преподавателями и студентами устанавливался, как того требовала Конституция Т. Арундела, неослабный надзор (Workman, 1926: 369).
Конституция налагала ограничения на обсуждение богословских вопросов в колледжах и запрещала изучение не только книг Дж. Виклифа, но и всех новейших текстов, которые не были единогласно одобрены комиссией из двенадцати богословов, назначенных архиепископом (ст. 6, 9–11). Труды его провозглашались вредными для христианской религии: «Because a new path oftener misleads men than an old, we will and ordain that no book or treatise composed by John Wicklif, or by any other in his time, or since, or hereafter to be composed, be henceforth read in the schools, halls, inns, or other places whatsoever within our province aforesaid»1.
Все еретические заблуждения Дж. Виклифа были занесены в особую книгу, экземпляр которой имелся у каждого главы колледжа. «Любой человек, занимавший преподавательскую должность либо претендующий на ученую степень в Оксфорде, должен был принести клятву в том, что не будет поддерживать виклифизм» (Workman, 1926: 369).
Менее подробные, но столь же строгие статьи (ст. 1–5, 8) касались проповеди. Они утверждали незаконность ее проведения без лицензии, которая выдавалась только после проверки ортодоксальности проповедника: «Farther, let not the clergy or people of any parish or place whatsoever in our province admit any one to preach in churches, churchyards, or any other places, unless full assurance be first given of his being authorized, privileged, or sent, according to the form aforesaid; otherwise, let the church, churchyard, or other place whatever where the preaching was, be ipso facto laid under ecclesiastical interdict, and so remain till they who admitted or permitted him so to preach, have made satisfaction, and have procured a relaxation of the interdict in due form of law to be made by the diocesan or other superior»2.
Запрещалось обсуждать в проповедях грехи духовенства или таинства (например, пресуществления и брака), проводить исповедь грехов, практиковать поклонение кресту, иконам, мощам и т. д.: «Because that part which does not agree with its whole is rotten, we decree and ordain that no preacher of the word of God, or other person, do teach, preach, or observe anything in relation to the sacrament of the altar, matrimony, confession of sins, or any other sacrament of the Church or article of faith, anything but what hath been determined by holy mother Church, nor call in question anything that has been decided by her; nor let him knowingly speak scandalously either in public or private concerning these things; nor let him preach up, teach, or observe any sect or sort of heresy contrary to the sound doctrine of the Church» (ст. 4, 5, 9)3.
Но Т. Арундел никогда не пытался запретить проповедникам переводить и излагать библейские отрывки в своих речах для паствы, хотя и резко ограничил круг тем, которые могли быть ими затронуты в таких изложениях; учитывая литургический контекст, в котором проходила большая часть проповедей, это было бы неосуществимо, даже если бы было желательно. Но статья 7 Конституции Т. Арундела запрещала кому бы то ни было делать письменный перевод текста Писания на английский язык или даже владеть его копией, сделанной во времена Дж. Виклифа, без разрешения епархии: «Therefore we enact and ordain that no one henceforth do by his own authority translate any text of Holy Scripture into the English tongue or any other by way of book, pamphlet, or treatise»4.
Таким образом, получается, что вернакулярным писателям, чьи переводы библейских цитат, в отличие от переводов проповедников, появлялись иегулярно и, следовательно, могли использоваться и применяться неправильно, было запрещено расширять свои дискуссии даже до тех пределов, которые были разрешены проповедникам. Выражение идей, почерпнутых из латинских книг и изложенных на письменном английском языке, могло быть воспринято, согласно Конституции, как «доказательство ереси».
Постепенно лоллардизм превращался в «английскую ересь», так как тесная связь между ним и вернакулярным языком стала к 1409 г. основным предметом озабоченности церковных иерархов. Но гораздо более широкая цель Конституции – подавить все обсуждения теологических или церковных вопросов на понятном для большинства простого народа английском языке. Хотя законодательство явно имело в виду в первую очередь труды лоллардов, его предписания распространялись также на авторов и всех других вернакулярных религиозных текстов.
Работы, написанные во времена Дж. Виклифа или после него, в которых активно использовались цитаты из Священного Писания, были теперь запрещены для тех, кто не получил должного разрешения для их использования. Что еще более важно, сочинение любых подобных текстов в принципе становилось прямо незаконным. Учитывая использование библейских цитат и широкое обращение к целому ряду богословских тем, ни одно из подобных произведений не могло быть написано после публикации Конституции, не нарушая ряд содержащихся в ней статей.
После смерти в 1414 г. архиепископа Т. Арундела его преемник, архиепископ Чайчил, составил новую Конституцию. Однако в данном документе явно прослеживалась прежняя тенденция. Закон предписывал епископам как минимум два раза в год проверять настроения своих прихожан. В каждом приходе должны были проводиться расследования по поводу «подозрительных лиц». Каждый, в отношении которого поступал донос, подлежал аресту.
Последствия Конституции . Несмотря на наличие данного акта, библейские цитаты, иногда в виде отдельных стихов, сохранились в текстах, написанных после 1410 г. Скорее всего, законодательство не сразу вступило в силу и начало оказывать свое влияние, возможно, это произошло лишь через пять или более лет после 1409 г. Как мы видим, его последствия не совпали с заявленными целями и в других сферах. Однако это не умаляет значимости Конституции в гораздо более широком контексте, чем просто противостояние ортодоксии и ереси. За несколько лет до 1409 г. архиепископ Т. Арундел успешно осуществил ряд тонких идеологических поправок, стремясь изменить религиозную культуру своего времени. Как мы видим, в области вернакуляр-ного богословия эта его попытка оказалась в значительной степени успешной.
Конституция пользовалась на протяжении века дурной славой и считалась одной из причин редкости вернакулярных текстов и нежелания духовенства распространять библейские знания. Однако похоже, что не было сделано серьезных попыток ограничить распространение текстов, написанных до 1409 г. Так, еще в 1357 г. на основе трудов Дж. Пекхама были составлены «Предписания», вероучительный текст которых был написан на английском языке. Он был утвержден на Поместном соборе и использовался одновременно с латинским вариантом (Hudson, 1985: 244). Этот факт свидетельствует о том, что английская церковь стала признавать «народный язык» и использовать его в своих проповедях. Возможно, распространению его поспособствовала Столетняя война и рост патриотизма. Однако закон использовался многократно для того, чтобы определить владельцев и читателей произведений, не связанных с лоллардизмом, как еретиков. Если верить свидетельствам судебных процессов над лоллардами, на протяжении всего столетия для людей, не принадлежавших к дворянству и городской элите, было опасно прослыть читателем таких текстов, как «Кентерберийские рассказы», «Укол совести», «Зеркало грешников» (Simpson, 2005: 389).
Однако наиболее важные последствия влияния Конституции проявились в характере вер-накулярного богословия, отраженного в текстах написанных до и после 1410–1415 гг. К. Хилл считает, что «английская литература возникла вдруг, вся сразу – Чосер, Ленгленд, Говер – во второй половине XIV столетия» (Хилл, 1998: 23). А изменения, введенные Конституцией Т. Арундела, позволяют предположить, что, как только влияние закона укрепилось, самой распространенной реакцией на него среди писателей и их переписчиков стало молчаливое подчинение. Конституция во многом сработала благодаря не публичному применению, а созданию атмосферы, в которой само-цензура считалась как общим благом, так и благоразумием в вопросах собственной безопасности.
И действительно, если десятилетия до 1410 г. английское богословие было новаторским и могло похвастаться такими оригинальными мыслителями, как Р. Ролле, У. Лэнгленд, поэт Перл, а также большим количеством анонимных авторов-лоллардов, то, начиная с 1410 г. и вплоть до XVI в. наблюдается значительное снижение числа крупных богословских произведений, написанных на вернакулярном языке, а также их объема и оригинальности. Большая часть литературы этого периода состояла из переводов с латинского, англо-французского или континентальных языков.
Изменение количества текстов стало еще одним свидетельством долгосрочных последствий Конституции. В XV в. наблюдается сокращение числа оригинальных теологических работ. И что самое интересное, большая их часть копировалась менее широко, чем религиозные работы, созданные еще в XIV в. То есть в XV в. именно произведения XIV в. пользовались наибольшей популярностью. Очевидно, что непреднамеренный побочный эффект Конституции помог ускорить создание канона богословской литературы, затруднив последующим авторам дальнейший вклад в нее, и таким образом, оригинальная богословская литература на английском языке в течение столетия была почти вымершей.
Конституция имела значительные последствия и для писателей, не придерживающихся взглядов лоллардов, и, более того, для всей интеллектуальной жизни Англии XV в. Данный закон выходил за рамки своей показной цели уничтожения ереси лоллардов и фактически пытался ограничить все виды теологического мышления.
Ситуация резко изменилась только после распространения книгопечатания. И, по мнению К. Хилла, уже «к середине XVII в., англичане имели за плечами 250-летний опыт» чтения Библии и богословских текстов на родном языке (Хилл, 1998: 33).
Развитие цензурного законодательства . Медленное развертывание издательского дела также серьезно сказывалось на цензурном законодательстве, и к середине XV в. наличие только трех типографий в Англии можно было бы противопоставить, например, развитию издательского дела в Германии, где в 434 городах империи существовали мастерские печатного дела, а в Венецианской республике насчитывалось 50 типографий. Эта задержка, вероятно, объясняется несколькими факторами: например, позднее проникновение книгопечатания; экономические факторы, а именно отсутствие достаточного капитала для инвестиций в типографии и слабый спрос на печатную продукцию могли сдерживать развитие отрасли, а главный фактор – политическая нестабильность – могла препятствовать развитию новых предприятий, включая типографии.
Привилегии, которые в 1484 г. были обещаны Ричардом III при получении патентов на печатное дело, говорили о том, что государство не может пустить на самотек развитие такой серьезной отрасли, как издательское дело, поэтому в целях поддержания собственников типографий с XVII в. издателям предоставлялось право конфискаций сочинений, изданных в обход выданных привилегий (Шершеневич, 1891: 89). Все это свидетельствовало о попытке стимулировать развитие отрасли, особенно в части печати религиозной литературы, и указывало на осознание государством потенциального влияния печатного слова на общественное мнение и религиозные убеждения.
Выдачей привилегий на издания печатных книг государство устанавливало общее для всех правило контроля за изданием литературы, особенно текстов религиозных. Начиная с 1546 г., после королевского указа, повелевавшего, что «любое произведение, напечатанное на территории Англии, должно быть снабжено сведениями об именах автора и типографа, а также иметь дату публикации» (Спасович, 1865: 4), устанавливается строгое цензурирование и государственный контроль за издаваемыми книгами. С этой целью в 1566 г. была учреждена особая корпорация (stationers), она взымала пошлину за разрешение для печати предполагаемого издания – книгу вносили в специальный реестр, но основным предназначением этой корпорации была государственная цензура, только после соответствующего заключения можно было публиковать произведение (Спасович, 1865: 5). Это право на выдачу разрешений на издание книг, а значит, и на проведение цензуры, ежегодно подтверждалось Звездной палатой, вплоть до ее упразднения, что впоследствии привело к ослаблению цензурного законодательства.
Надо отметить, что цензура на первых порах своего существования была полезна и пусть не в полной мере, но защищала от контрфакторов, поскольку книгоиздатель должен был документально подтвердить согласие отцов церкви или авторов на издание того или иного произведения.
10 апреля 1710 г. Палатой общин был утвержден закон «О поощрении образования путем закрепления за авторами или приобретателями копий печатных книг прав на последние на время, устанавливаемое отныне», второе название данного закона, ставшего значимым документом в области авторского права – «Статут королевы Анны Английской» (Лукас, 1997). В нем говорилось: «С десятого дня апреля месяца одна тысяча семьсот десятого года автор любой книги или книг, уже напечатанных, или другого лица, которые купили или приобрели иным путем экземпляр или экземпляры любых книг, чтобы напечатать или перепечатать эти же книги, располагаю неотъемлемым правом и свободой печатать такие книги…» (Липцик, 2002: 29). Этот закон, направленный на «поощрение образования», закреплял за авторами или приобретателями прав на печатные книги исключительное право на их печать и перепечатку на определенный срок. Это стало важным шагом в признании и защите прав авторов, стимулируя творческую деятельность и развитие литературы.
В ходе развития авторского права на произведения литературы авторам, вписанным в реестр, предоставлялось исключительное право копирайта на 14 лет, а затем, если автор был еще жив, то срок возрастал до 28 лет (Спасович, 2002: 212). Для контрафакторов, в целях защиты от авторов, предусматривались штрафы. «Архиепископ кентерберийский, епископ лондонский, лорд-канцлер, лорды, председательствующие в вестминстерских судах и вице-канцлеры Оксфордского и Кембриджского университетов снабжены властью принимать жалобы на чрезмерно высокие цены книг и понижать их по своему усмотрению» (Спасович, 1865: 19). Запись в реестре стала необязательной, даже под страхом штрафных санкций, тем не менее именно она служила в качестве доказательства, принимаемого судом.
Таким образом, сочинения авторов, изданные в типографиях Итонского, Кембриджского или Оксфордского университетов, признавались собственностью авторов и защищались государством, и это преимущество университетских типографий длительное время привлекало многих авторов, создавая баланс между их интересами и общественным достоянием. Закон предусматривал штрафы для контрафакторов, что усиливало защиту авторских прав и стимулировало легальное книгоиздание. Важным элементом системы регулирования был контроль за ценами на книги. Архиепископы, епископы, лорд-канцлер и вице-канцлеры университетов имели право рассматривать жалобы на высокие цены и снижать их по своему усмотрению. Это было направлено на обеспечение доступности книг для широкой публики.
Результаты . В целом, подводя итоги, мы можем заключить, что английская Библия и вернакулярная литература сыграли значимую роль в формировании национального самосознания англичан, привели к распространению английского языка в обществе, несмотря на жесткие попытки противостоять этому. Процесс перехода к национальному языку также ускорила Столетняя война, после которой английский язык стал государственным. И наконец, чтение на родном языке привело к развитию грамотности среди населения Англии, которое стимулировалось развитием книгоиздательской деятельности. Это была «культурная революция, последствия которой трудно переоценить» (Хилл, 1998: 25).
Анализ Конституции Т. Арундела и более позднего цензурного законодательства показал, что подобные документы были не просто результатом противостояния между «ортодоксами» и «еретиками», а стали фактической причиной значительных культурных изменений, задержав на время развитие английской литературы. Действовавшее законодательство привело в целом к успешной попытке подавить дальнейшее развитие вернакулярного богословия. Государство, осознавая влияние печатного слова, стремилось контролировать содержание издаваемых книг, но также принимало меры по стимулированию развития отрасли и защите авторских прав.
В целом, эволюция издательского дела и цензурного законодательства в Англии в рассматриваемый период представляла собой сложный и противоречивый процесс, отражавший как стремление государства к контролю над информацией, курсирующей в обществе, так и осознание важности интеллектуальной собственности.