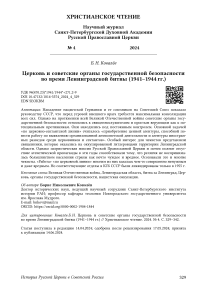Церковь и советские органы государственной безопасности во время Ленинградской битвы (1941-1944 гг.)
Автор: Ковалв Б.Н.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История русской церкви в советской России
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз показало руководству СССР, что перед угрозой внешнего врага требуется максимальная консолидация всех сил. Однако на протяжении всей Великой Отечественной войны советские органы государственной безопасности относились к священнослужителям и простым верующим как к потенциальным противникам. Они находились под постоянным контролем. Основной задачей «по церковно-сектантской линии» считалось «приобретение ценной агентуры, способной повести работу по выявлению организованной антисоветской деятельности и агентуры иностранных разведок среди церковников и сектантов». Особый интерес для чекистов представляли священники, которые оказались на оккупированной гитлеровцами территории Ленинградской области. Однако патриотическая миссия Русской Православной Церкви и почти полное отсутствие атеистической пропаганды в эти годы способствовали тому, что религия не воспринималась большинством населения страны как нечто чуждое и вредное. Осознавали это и многие чекисты. «Работа» «по церковной линии» многим из них казалась чем-то совершенно ненужным и даже вредным. Но соответствующие отделы в КГБ СССР были ликвидированы только в 1955 г.
Великая отечественная война, ленинградская область, битва за ленинград, церковь, органы государственной безопасности, нацистская оккупация
Короткий адрес: https://sciup.org/140308066
IDR: 140308066 | УДК: 94(470.23)"1941/1944"+271.2-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_329
Текст научной статьи Церковь и советские органы государственной безопасности во время Ленинградской битвы (1941-1944 гг.)
14.06.2024.
События Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для нашего народа. Новый государственный строй, установившийся на территории нашей страны после 1917 г., способствовал форсированному развитию экономики, немало было сделано в вопросе массовой ликвидации неграмотности.
Однако советское государство рассматривало Церковь не просто как идеологического конкурента, но и как силу, мечтающую о реставрации старого строя. Поэтому многие священнослужители были просто уничтожены. Особенно активно эта тенденция наблюдалась в годы т. н. «большого террора».
Нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз показало руководству СССР, что перед угрозой внешнего врага требуется максимальная консолидация всех сил. В этих условиях в июле 1941 г. вышел последний номер газеты «Безбожник». Атеистическая пропаганда практически прекратилась. На смену ей пришел национальный патриотизм. Уже в самом начале войны И. В. Сталин через своего секретаря А. Н. Поскрёбышева дал руководителю Союза воинствующих безбожников Е. М. Ярославскому поручение отметить патриотическую позицию верующих в печати [Якунин, 2004, 10].
Однако на протяжении всей Великой Отечественной войны советские органы государственной безопасности относились к священнослужителям и простым верующим как к потенциальным противникам. 24 ноября 1943 г. народный комиссар государственной безопасности СССР 1 ранга В. Н. Меркулов утвердил заключение по агентурнооперативной работе вторых (контрразведывательных) отделов Управления НКГБ по Ленинградской области. Оно было составлено по отчетным материалам вторых отделов УНКГБ. Были предоставлены данные за четыре месяца 1943 г., с 1 июля по 1 ноября. Один из разделов этого документа был посвящен «Агентурно-оперативной работе по церковникам и сектантам» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 12).
Из него следовало, что «на 1 ноября текущего года оперативный учет по духовенству и церковникам составляет 106 человек. Однако за время войны по Ленинградской области не было вскрыто ни одного серьезного дела по церковникам и сектантам» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 12).
Максимум, что было выявлено, это только распространение различных слухов, жалобы на тяжелые условия, критика действий некоторых чиновников. «Из поступивших сообщений видно, что было проведено 4 дела на небольшие (2-3 чел.) локальные группы церковников и сектантов. Агентурно-следственным путем по этим делам были установлены только факты антисоветской агитации со стороны привлеченных к ответственности лиц» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 12).
Патриотическая позиция Церкви в этом документе объясняется хорошей работой органов государственной безопасности: «Материалов о возможной организованной антисоветской работе церковников и сектантов от УНКГБ не поступало.
Положительным моментом в работе по церковной линии является проведенная УНКВД — УНКГБ за период военных действий большая патриотическая работа» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 12).
Непосредственными задачами отделов УНКГБ «по церковно-сектантской линии» называлось следующее: «приобретение ценной агентуры, способной повести работу по выявлению организованной антисоветской деятельности и агентуры иностранных разведок среди церковников и сектантов как в легально действующих церковносектантских общинах, так и в группах, находящихся в подполье;
— активизация разработки антисоветских элементов из числа реакционной интеллигенции, поддерживающей связь с церковниками, сектантами и мистиками» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 12).
Здесь видно, что одним из направлений деятельности чекистов обозначается борьба с увлечениями некоторой части молодежи различными религиознофилософскими идеями. Предполагалось заняться организацией агентурной работы «по выявлению антисоветской деятельности церковников и сектантов среди молодежи. Создание ими религиозно-мистических кружков молодежи и антисоветских групп под видом „Христианского союза молодежи“» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 13) также было объектом внимания органов государственной безопасности.
Но не только христианские конфессии вызывали интерес чекистов в условиях блокады города на Неве. Предлагалось обеспечить агентурную разработку «еврейских клерикалов, группирующихся вокруг хоральной синагоги в г. Ленинграде» (АУФСБ СПбЛО. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27. Л. 13).
В первые месяцы после освобождения зимой-летом 1944 г. Ленинградской области был подготовлен порайонный «Сборник материалов о немецких разрушениях и зверствах, деятельности разведывательных и контрразведывательных органов противника в районах области, подвергшихся оккупации». Отдельный раздел (обычно он шел под № 5) именовался «Церковь на службе у немцев».
Следует отметить, что в том, что касается памятников церковной архитектуры, пострадавших от бомб и снарядов, обстрелов, к ним уже нет столь пренебрежительного отношения, как в 20–30-е гг. Так, всего за год до начала Великой Отечественной войны Борис Иофан, главный архитектор строительства Дворца Советов, который возводился на месте взорванного Храма Христа Спасителя, весьма агрессивно писал: «…влияние религии на искусство всегда было реакционным.
Создавались Собор Парижской богоматери, Реймсский собор, Исаакиевский собор, Вестминстерское аббатство, а народные массы жили в нечеловеческих условиях… Целые тонны слез и горя стоили рабочим эти ненужные молельни, рассчитанные на задурманивание масс» [Люди сталинской эпохи о религии, 1940, 4, 15].
В 1944–1945 гг. отношение к подобным памятникам архитектуры кардинально изменилось. Вот как характеризовали чекисты разрушения в Новгородском районе, в частности в древнейшем храме Руси: «Софийский собор, построенный в 1045– 1052 гг., является одним из древнейших и величественных памятников русского зодчества.
Благодаря сохранившимся фрескам XII века, иконам XII–XVII веков, древним иконостасам и другому внутреннему убранству, собор представлял собой подлинную сокровищницу древнерусского искусства» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 23).
В значительной степени здесь повторяется текст соответствующего акта ЧГК1: «В результате обстрелов и в итоге оккупации Новгорода здание собора во многих местах разрушено, а его внутреннее убранство варварами разграблено. На главах собора сняты все кресты. Со средней главы содраны золоченые листы кровли. Уничтожена значительная часть других глав и самое здание. Известное изображение Спасителя в куполе средней главы разрушено. Уничтожена часть росписи 1104 года в барабане главы, а уцелевшие изображения сильно повреждены. Отсутствуют иконостасы XVI века главного храма и Рождественского придела, резные царские и архиерейские места XVI века. Разрушены древние гробницы. Находившиеся в них останки Новгородских князей и владык отсутствуют.
Из задней стены собора выломан и похищен каменный крест XIV века» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 23–24).
Древний Юрьев монастырь на протяжении долгих месяцев — с августа 1941 по январь 1944 г. — находился на линии фронта. Но он пострадал не только от обстрелов, но и от вандализма: «Георгиевский собор Юрьева монастыря, постройки 1119 года, одно из лучших творений русских зодчих, был обращен немцами в наблюдательный пункт.
Древние стены собора повреждены многочисленными попаданиями снарядов, а в алтаре в трех местах пробиты. Уничтожена большая часть кровли собора и сняты золоченые листы куполов. Находящиеся в башне фрески XI века покрыты густым слоем копоти и повреждены нацарапанными на них рисунками» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 24).
В «Воспоминаниях» академика Дмитрия Лихачева, который побывал в своем любимом городе на Волхове в мае 1944 г., осталось такое описание: «В Новгород я приехал утром. Поезд остановился в поле. Поле это и был Новгород. Потом я разглядел Софию и некоторые церкви…
Куполов на барабанах Софии не было. Походив вокруг храма по траве, я нашел золоченый шар из-под креста одного из небольших куполов. Я подобрал его. Ясно была видна сохранившаяся сравнительно толстая, основательная позолота. За Софией на одном из домов была надпись: „Эль вива Саламанка“ — здесь стояли испанцы...
Я пошел в Юрьев монастырь. На Синичьей горе церковь была цела, но самые дорогие памятники (а кладбище на Сильнище считалось самым богатым) были увезены. Я их увидел в Юрьевом монастыре. Испанцы не довольствовались для своих убитых скромными могилами, как немцы, а воздвигали могилы из украденных камней. Кладбище было там, где находился считавшийся священным источник под дорогой сенью.
За Георгиевским собором было сооружено место для орудия. От него шли телефонные провода на лестничную клетку собора. На верхней площадке были остатки костров, и стены были сильно закопчены. На стенах лестницы охочие до искусства испанцы рисовали голых баб: прямо по остаткам фресок XII века» [Лихачев, 2006, 389–391].
Непоправимой трагедией стало почти полное уничтожение жемчужины древнерусской архитектуры — храма Спаса на Нередице. «Церковь Спаса-Нередицы, построенная в 1198 году и расписанная в 1199 году, своей художественной ценностью, сохранностью архитектуры и фресковой росписью, представляла памятник русского искусства XII века, пользовавшийся всемирной известностью. Массированными обстрелами артиллерией здание обращено в развалины и уничтожено как художественный памятник. Разрушены купола, своды и большая часть стен. От знаменитой росписи остались лишь небольшие, сильно поврежденные фрагменты» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 25).
Храмы, находившиеся на линии фронта, превращались в военные укрепления противника. «Церковь Благовещения на Аркаже 1179 г. с фресками, исполненными в 1189 году, была обращена фашистами в долговременную огневую точку и казарменное помещение. Фрески южного полукружья на значительном участке стены сбиты» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 25).
В чекистском отчете идет противопоставление: памятники церковной архитектуры в СССР реставрировались, а «цивилизованные европейцы» их безжалостно расстреливали из своих орудий: «Церковь Успенья на Волотове поле 1352 г. представляла собой важнейший памятник в истории Новгородской архитектуры XI-XIV вв., не повторенный полностью ни одним другим сооружением.
В 1935–40 гг. церковь была реставрирована и восстановлена в основных своих формах в первоначальном виде. Роспись храма, выполненная в 1363 году, являлась одним из лучших произведений монументальной живописи XIV века и пользовалась широкой известностью и вне пределов Советского Союза. Артиллерийским обстрелом немцев церковь превращена в груду камня и кирпича.
Церковь Спаса-на-Ковалеве построена в 1380 году. Она разрушена немецкой артиллерией. От памятника осталась только часть стен» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 25).
При чтении этого документа возникает чувство, что он был подготовлен не сотрудниками органов государственной безопасности, а искусствоведами: «Церковь Спаса Преображения на Ильиной улице 1374 года — один из лучших образцов Новгородской архитектуры эпохи ее расцвета, известная своей росписью, выполненной в 1378 году прославленным живописцем Феофаном Греком, была превращена фашистами в наблюдательный пункт, устроенный наверху храма.
Знаменитые фрески в главе церкви, которые в течение ряда лет тщательно расчищались советскими учеными от позднейших наслоений и восстанавливались в своей первоначальной живописи, покрыты сплошным слоем копоти, поверхность их исцарапана рисунками, а часть изображений уничтожена вследствие разрушения стен.
Задняя часть здания имеет значительные разрушения, причиненные артиллерийским обстрелом» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 25–26).
С октября 1941 по август 1942 г. в Новгороде дислоцировались «нейтральные» союзники нацистской Германии солдаты испанской Голубой дивизии. Доброволец-фалангист Хосе Луис Гомес Тельо, журналист, написал про нее книгу. Вот что он пишет о Новгороде: «он является наиболее красивой и старой из четырех русских столиц. Новгород — мать русских городов, Киев — дочь. Москва — боярская и богомольная — это позавчера, его правнучка. Петроград, окно на Запад Петра I, — это вчера, его внучка» [Елпатьевский, 2015, 75].
Во всех разрушениях древнего русского города Тельо обвиняет исключительно Сталина и коммунистов: «Думаю, что мучения, которые вражеская артиллерия причиняет городу без какой-либо пользы для себя, — это запоздалая месть антиисторических людей Сталина, направленная против Истории, которая есть Новгород, с высокими крестами, куполами, сотнями золотых луковиц на мертвенно-бледном октябрьском небе. Потому что в пейзаже Новгорода почти не видно ни фабричных дымовых труб, ни газогенераторов.
Это последний буржуазный город России…
Чтобы отомстить, советские пушки бешено расстреливают немногие еще нетронутые стены, зеленые и золотые башенки. Они хотят разрушить не только камни, но и дух города» [Елпатьевский, 2015, 75–76].
С одной стороны, это правда. Город обстреливался советскими войсками. Однако гитлеровцы не только не жалели памятники архитектуры, но и активно использовали их в качестве оборонительных сооружений. Кстати, последнее можно увидеть на многочисленных испанских и немецких фотографиях. Поэтому факты, выявленные советской стороной, полностью соответствуют действительности: «Церковь Архангела Михаила в Сковородском монастыре, построенная в 1355 году, полностью разрушена немецкой артиллерией. Вместе со зданием уничтожены фрески, открытые в 1937 году и представляющие собой ценнейший памятник монументальной живописи, выполненной новгородскими мастерами конца XIV века.
Разрушена также церковь Благовещения на Рюриковом городище — усадьбе новгородских князей» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 26).
Кроме артиллерийских обстрелов город пострадал от бомбардировок люфтваффе: «Звонница Софийского собора XVI века, единственное в Новгороде сооружение этого типа, в результате неприятельских бомбардировок и обстрелов получила значительное повреждение. Разрушено каменное крыльцо. С главы сорвано железо» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 26).
Очень сильно пострадали храмы, находившиеся на Торговой стороне Новгорода, в непосредственной близости от линии фронта. «Знаменский собор 1688 года, памятник церковного зодчества конца XVII столетия, с фресковой росписью стен, выполненной в 1702 году артелью костромских художников, превращен немцами в казарму, размещенную ими под папертями.
Дымовые трубы от печей времянок выпущены через пробитые своды непосредственно в помещении собора, стенная роспись местами вовсе исчезла под толстым слоем копоти.
В алтаре северного придела устроена уборная. Уничтожены иконостасы с иконами XII–XVIII столетий» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 26).
Трагедия Новгорода в немалой степени связана с расхищением ценностей, которые находились в музеях и не были эвакуированы. Среди них были тысячи древних икон. Стены же храмов зачастую использовались оккупантами как строительный материал. «Большое число памятников, в том числе и вовсе не пострадавших от бомбардировок, артиллерийских обстрелов и пожаров, подвергались хищническому разрушению оккупантами, с целью получения строительного материала для сооружения ДЗОТов и дорог.
Так, например, церковь Фрола и Лавра, 1379 года, взорвана, а камень использован на строительство дорог. Выпилены балки перекрытый церквей Рождества на поле,
1382 г., Петра и Павла в Кожевниках, 1406 г., Симеона Богоприимца в Зверином монастыре, 1467 г., и многие другие» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 25–26).
Однако в данном сборнике материалов четко делятся день вчерашний и день сегодняшний. На памятники архитектуры, разрушенные в ходе боевых действий, и современную «Церковь на службе у немцев». Из него следует, что некоторые священники, активно поддержавшие гитлеровцев, до войны сотрудничали с НКВД: «В Новгородском районе немецкими властями было открыто 8 церквей в следующих населенных пунктах.
Село Георгий — служителем культа был бывший священник Новгородской церкви Михаила Архангела Николаевский Василий Васильевич. В прошлом наш секретный сотрудник под псевдонимом „Окороков“, который при занятии г. Новгорода немецкими войсками в советский тыл не эвакуировался.
Николаевский, оставшись на оккупированной территории, имел тесную связь с немецкими офицерами.
В селе Курицко служителем культа был некто Владимир (фамилия не установлена). Был привезен откуда-то немцами. В проповедях призывал население помогать немецкой армии быстрее разбить Красную армию, чем ускорить конец войны.
В селе Васильевское служителем культа был Быстриевский Константин Алексеевич, 1889 г. р., уроженец г. Ленинграда, и в прошлом священник. До войны работал бухгалтером в Новгороде, являлся нашим секретным сотрудником под псевдонимом „Уверов“» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 27).
Однако нельзя утверждать, что все священники до войны сотрудничали с НКВД. Как и сами чекисты не нашли никаких следов подрывной деятельности у тех, кого они не смогли идентифицировать. «В селе Спасопископец священником был некто Сергий, фамилия не установлена, привезенный немцами из Шимского района. В церкви с. Ямок священником был какой-то учитель, откуда он и фамилия его не установлены.
В селах Орлово, Троица и Старое Ракомо священники немцами были привезены из других районов и фамилии их не установлены, так как в данных населенных пунктах не оставалось населения.
Установлено, что церкви открывались на средства жителей. Все священники выехали в немецкий тыл. Каких-либо контрреволюционных группировок вокруг бывших открытых церквей не зафиксировано» (АУФСБ НО. Ф. 7. Д. 33. Л. 37–38).
Дольше всего в России под вражеской оккупацией находились западные районы Ленинградской области. 23 августа 1944 г. они вошли в состав вновь образованной Псковской области.
Перед войной в Пскове не осталось ни одного действующего храма. Последнее прибежище верующих, маленькую кладбищенскую Дмитриевскую церковь, располагавшуюся за городом, закрыли в апреле 1941 г. и здание ее передали под склад.
Во время оккупации здесь активно действовала Псковская православная миссия, находившаяся в постоянной связи с различными немецкими тыловыми и разведывательными службами. Поэтому чекисты уделяли вопросам взаимодействия Церкви и оккупантов особое внимание.
В архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области хранится «Сборник материалов о немецких разрушениях и зверствах, деятельности разведывательных органов противника в районах Ленинградской области, подвергавшихся оккупации». В материалах по Гдовскому району указано: «В октябре 1941 года в Гдов прибыл из Риги священник Легкий Иоанн. Наряду с проведением богослужений в Афанасьевской церкви, которая функционировала и в довоенное время, Легкий приступил к открытию церквей в населенных пунктах района. За время немецкой оккупации в Гдовском районе было открыто 10 церквей, богослужения проводились приезжавшими из города Гдова священниками» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 10).
Согласно этому донесению, при отступлении сами гитлеровцы уничтожили один из храмов: «В настоящее время постоянно действующих церквей в районе нет.
Афанасьевская церковь немцами взорвана. В престольные праздники в них происходят богослужения силами самих верующих.
Кроме священника Легкого в Гдове служили: Иродионов Роман, Соколовский Владимир, Першев Виктор и протодиакон Юдин. Все они бежали с немцами» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 10).
Кроме нейтрального слова «священник» в документе используется пренебрежительно-уничижительное «поп» по отношению к тем священнослужителям, которые наиболее активно сотрудничали с гитлеровцами: «Попы среди верующих широко проводили антисоветскую деятельность, имели тесную связь с „СД“ и „ГФП“. В проповедях и молебствиях восхваляли немецко-фашистский строй и клеветали на советскую власть. По окончании обедни совершались благодарственные молебны. Протодиакон Юдин провозглашал многолетие Гитлеру» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 10).
Некоторые священники до войны были репрессированы советской властью: «Священник Соколовский в произносимых им проповедях заявлял, что он лично много пережил страданий, будучи сослан советской властью в Соловки, где пробыл 5 лет» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 10).
Особое внимание чекисты уделили деятельности священнослужителей, которую прямо или косвенно можно было расценить как пропагандистскую поддержку нацистского оккупационного режима. «Гитлеровский закон „Об освобождении крестьян от колхозов и дарении им навсегда земли и полной недействительности советских за-конов“ был оглашен впервые в церкви 15 марта 1942 года. 17 июля 1942 года, в годовщину оккупации города Гдова, совершалось молебствие с антисоветской проповедью.
В городе Гдове и районе попы распространяли среди населения церковный антисоветский журнал „Провославный христианин“, издававшийся „Псковской миссией“» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 10).
Из данного «Сборника материалов» видно, что абсолютное большинство храмов на этой территории было закрыто еще до начала войны. Город Дно — крупный железнодорожный узел. Это предполагало высокую концентрацию здесь войск противника. Из «Сборника материалов» следует, что гитлеровцы относились к храмам крайне потребительски. Часть из них оказалась уничтожена перед отступлением вермахта: «В период оккупации, проживавшие в районе и завезенные из Прибалтики контрреволюционно настроенные церковники, встали на путь активной поддержки оккупантов, и в ряде случаев были завербованы как тайные агенты немецкой контрразведки.
До войны в Дновском районе действующих церквей не было. Немцы открыли девять церквей: в г. Дно, селе Морино, деревнях: Рвы, Белая, Михайлов Погост, Гориста, Скугры, Б. Тресно, Заклинье. Впоследствии из девяти церквей немцы взорвали четыре» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 22).
Судя по «Сборнику материалов», большинство священников в этом районе были эмигрантами, покинувшими Россию после событий 1917 г. Они прибыли на оккупированную территорию из Франции и Прибалтики. «В г. Дно находился совет Дновского-Порховского Церковного округа, во главе которого стоял священник Гуша-нов Василий, привезенный немцами из Прибалтики, получивший церковное образование в Париже. Гушанов — убежденный фашист, белоэмигрант. По неутвержденным данным он был убит партизанами в поезде. После Гушанова в церковный совет был прислан священник Толстоухов, получивший образование в Париже, фашист.
Надзор за духовенством со стороны „Псковской православной миссии“ происходил через представителей миссии. В Дновский район, а также в другие районы из Пскова выезжали Букин Павел Николаевич и Зубов Павел. Оба убежденные фашисты. Зубов ежемесячно появлялся в церковных приходах. Собирал сведения о настроениях духовенства и о состоянии антисоветской пропаганды» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 22).
В г. Дно выходила коллаборационистская газета «За родину». В ней регулярно появлялись различные материалы на религиозную тему. Авторами некоторых из них являлись Алексеев и Андриевский, именовавшие себя «профессорами». Их деятельность была также отражена и в чекистском документе: «Попы и церковники в Дновском районе проводили активную деятельность в пользу немцев. 19 ноября 1942 года в г. Дно состоялся съезд духовенства. Все выступавшие на съезде призывали к борьбе с советской властью и Красной армией.
Священник Рушанов в своей речи говорил: „При советской власти во всей России церковная жизнь была разрушена. Теперь пришла освободительница русского народа — германская армия, которая проявляет заботу об открытии храмов“.
Рушанов призывал духовенство к борьбе против большевизма через церковь и школу. На съезде с докладами выступали профессора Алексеев и Андриевский» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 22).
Еще одним весьма важным направлением деятельности священников-коллаборационистов являлась школа. Работе с педагогами гитлеровцы придавали особое значение: ведь за ними была молодежь, настроенная в немалой степени просоветски. «Немцы использовали церковников для проведения широкой антисоветской деятельности в школах. В 1942 году немецкие власти провели в г. Дно десятидневные курсы учителей. На курсы были созваны все учителя города и района. Курсанты прослушали цикл антисоветских лекций фашистских пропагандистов.
В числе лекторов были попы, которые призывали к борьбе с безбожием в школе, дали практические инструкции о преподавании Закона божьего и т. д. все курсанты организованно посетили церковь в г. Дно, где был проведен молебен. Перед учителями в церкви выступал с речью священник Макаренко Стефан Андреевич, который призвал учителей к решительной борьбе с безбожием, к борьбе с коммунистами.
В дальнейшем вся работа школ района была тесно увязана с антисоветской деятельностью церковников. Попы сами или через учителей прививали школьникам антисоветские профашистские взгляды» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 23).
Далеко не всем священникам, сотрудничавшим с гитлеровцами, удалось скрыться. «Из активных церковников нами арестованы: священник Макаренко Стефан Андреевич и регент церковного хора города Дно Никольский Василий Николаевич Макаренко, в прошлом дважды судимый за контрреволюционные преступления. С первых дней оккупации Дновского района вошел в тесное сотрудничество с немцами. Вел исключительно активную фашистскую пропаганду, в церкви выступал с проповедями, в которых возводил клевету на советский строй. Всячески восхвалял фашистскую Германию и ее руководителей. Макаренко являлся близкой связью руководителя „Псковской православной миссии“ Зайца и благочинного Рушанова.
Церковник Никольский В. Н. с начала оккупации Дновского района принял активное участие в открытии церквей, выступал в газете „За Родину“ с контрреволюционными статьями на церковные темы» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 23).
В период оккупации немцами Дедовичского района там были открыты три церкви: Высоцкая, Красногорская и Болчинская. Один из служителей был убит, кто-то бежал с гитлеровцами, кто-то арестован чекистами: «В Высоцкой церкви п. Дедовичи и Красногорской — совхоз „Красные Горки“ службу вел священник Н.А. Стефаносов. Его в феврале 1944 года при бегстве в тыл противника расстреляли партизаны.
Из состава церковного актива известны: церковный староста Михайлов И. М., 1882 г. рожд., уроженец и житель дер. Новая Деревня Дедовичского района, член церковного совета. Никитин Д. Н., уроженец и житель той же местности, казначей. Алексеев С. А., 1883 г. рожд., уроженец той же деревни.
В Болчинской церкви, дер. Болчино Козулинского сельсовета службу проводил бывший дьякон Яссковской церкви, бежал с немцами.
В состав церковного совета Болчинской церкви входили: церковный староста Петров Н.П., 1892 г.р., уроженец и житель дер. Болчино Дедовичского района, колхозник, Богданов В. Б., 1902 г. рожд., Иванов В., 1892 года рождения» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 31–32).
Советские органы не интересовали непосредственно сами церковные службы. Но нацистская пропаганда, и особенно сбор денежных средств в пользу вермахта, находились в зоне особого внимания спецслужб: «В Высоцкой и Красногорской церквях священник Стефаносов после каждой службы выступал с проповедями контрреволюционного характера, восхваляющими фашистский строй.
Инструктаж на проведение антисоветской деятельности Стефаносов получал от Псковской духовной (так в тексте. — Б. К. ) миссии. Перед отступлением немцев церковный совет сдал в Дедовичскую военную комендатуру 30.000 рублей, собранных с верующих» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 32).
Особо оказалась отмечена в Дедовичском районе деятельность старообрядцев. Хотя из приведенных данных никакой компрометирующей их информации не следует. Более того, указано, что один из них стал воином РККА: «В настоящее время в районе проявляется активность староверов. В дер. Дубьё проводил службу староверский проповедник Зубов Марк. В связи с призывом его в Красную армию в мае 1944 года моления в д. Дубьё прекратились, но староверы стали посещать молельню в деревне Богач, где проводит богослужения другой староверческий поп Смолов П. Г., житель д. Груздово» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 32).
В Карамышевском районе немцы открыли 4 церкви, в деревнях: Мелетово, Ручьи, Виделебье и Гостибицы. Здесь служили как местные, так и приезжие священники. «^В деревню Мелетово Рушанов Василий, который приехал из города Риги. Он был резидентом немецких разведывательных органов, по неподтвержденным данным убит партизанами при подрыве поезда. В дер. Ручьи служил Борозденков Кирилл. Сейчас проживает в районе. В этих церквях открыто проводилась обработка верующих в профашистском духе.
Из церковного актива установлены 7 человек, из которых Виноградов Андрей арестован, остальные взяты на учет» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 41–42).
Начинать борьбу с оккупационным режимом силам советского сопротивления в 1941 г. приходилось в исключительно тяжелых условиях. Отсутствие информации о положении на фронтах, засилье немецких газет и листовок привело к тому, что некоторые районы (например, Лядский) стали называться «братской партизанской могилой» (ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 201. Л. 62). В этих районах часть населения повторяла то, что было написано фашистскими пропагандистами. Они называли партизан «сталинские бандиты».
Отсутствие заранее подготовленных баз с продовольствием заставляло силы сопротивления на начальном этапе войны заниматься насильственными реквизициями (ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 201. Л. 62). Оккупанты использовали каждый факт подобных изъятий для своих пропагандистских целей. Была подготовлена серия радиопередач о том, как немецкие солдаты помогли русским крестьянам вернуть имущество (скот, хлеб, картофель), отнятое у них «красными бандитами» (ГАНИНО. Ф. 225. Оп. 5. Д. 6. Л. 8).
Однако после освобождения района никаких интересующих чекистов компрометирующих Церковь фактов выявлено не было: «До оккупации в Лядском районе действующих церквей не было. Немцы открыли 5 церквей: в деревнях Воброво, Заянье, Лосицы, Марьинское и в пос. Ляды. В этих церквях богослужение производилось от случая к случаю. Штатных священников не было. Приезжали священники из Плюссы и Пскова. Старый церковный актив, имевшийся в районе, в период оккупации никакой деятельности не проявил» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 46).
До войны в Новосельском районе не имелось ни одной действующей церкви. В период оккупации района немецкими властями было восстановлено 3 храма: Па-лицкая, Кубасовская и Новосельская церкви.
В церквях Новосельского района служили:
«В Палицкой — священник Амфилохий Сергеев, установленный агент гестапо, бежал с немцами. Псаломщик Брыков в данное время проживает в Новосельском районе. В Кубасовской церкви служил Богданов Илья, проживает в Новосельском районе, взят в активную разработку. Псаломщиком была Гаврилова Ольга. В Новосельской церкви священником служил монах Исаакий, умер в 1943 году.
Установлено, что Амфилохий Сергеев был тесно связан с немецкими разведывательными и контрразведывательными органами, занимался активной предательской деятельностью.
В Кубасовской церкви поп Богданов Илья в своих проповедях восхвалял силу немецкой армии, называя немцев освободителями. Во всех школах района было введено изучение закона божия» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 56).
Пожеревицкий район входил в состав Ленинградской, а затем Псковской области с 1939 по 1958 г., когда его упразднили. К 1941 г. все храмы на его территории оказались закрыты. Гитлеровцы постарались максимально использовать это в своих целях. «До войны в Пожеревицком районе никаких церквей не было. В период оккупации немцами были открыты Пожеревицкая, Вышегородская, Дмитрогородская и Навережская церкви.
Кроме богослужений, попы выступали в церквях с профашистской агитацией. Стараясь максимально привлечь население, немцы в церквях устанавливали воскресные дни для молодежи, проводили изучение молитв и закона Божия.
Работавший в церкви священник Троицкий, являлся ближайшим помощником полевой жандармерии, имел тесную связь с немецким комендантом и переводчиками, которым сообщал о настроении населения. До отступления немецких войск из района Троицкий бежал, ограбив церковь» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 65).
Похожая информация по Сошихинскому району: «В период оккупации немцы открыли в районе три церкви, в деревнях: Маршевицы, Сигорицы и Владимирец. Попы были привезены из Латвии, с отступлением немцев уехали. В настоящее время действующих церквей нет, как не было их и до войны» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 124)
В Палкинском районе до войны также оказались закрыты все без исключения храмы. Во вновь открытые церкви приехали служить, в первую очередь, священники-эмигранты. «До оккупации в районе действующих церквей не было. Немцы открыли 6 церквей в населенных пунктах: Смолины, Локно, Батьяново, Н. Уситва, С. Уситва, Черская.
В Смолинской церкви служили священники из Псковской Миссии. Вначале священник Цикуртеп Алексей около 4-х месяцев, после него священник Щенрок Николай, а с 1 января 1943 года священник Рясенский Иван, который служил и до сего дня. Руководили церковными делами церковный Совет и церковный староста.
Церковный совет состоял из священника, церковного старосты Сергеева Степана из дер. Чернокуново и церковного актива: Петрова Гавриила из дер. Гоголево, Самрова Константина из дер. Палкино и Трофимова из дер. Шурполово.
Локновская церковь. В начале 1943 года Локновскую церковь обслуживал священник Рясенский Евлампий. Летом 1943 года назначен священник Оглоблин Иван, который в марте 1944 года арестован немцами за связь с партизанами. После него служил без всякого назначения священник Парийский Михаил, служит и до сего дня.
Батъяковская церковь. Служба началась с марта 1943 года, служил священник Овчинников Василий, эвакуированный немцами из Черской церкви.
Ново-Уситовская церковь. В 1943 году обслуживал священник Рясенский Евлампий из Смолинской церкви, а в 1944 году был назначен постоянный священник, фамилия которого не установлена.
Старо-Уситовская церковь. Служил Воскресенский Владимир, уроженец Эстонии, посвящен в священники в конце 1942 года. Воскресенский служил до декабря 1943 года, а в декабре 1943 года уехал обратно в Эстонию. Церковными делами руководил церковный совет и церковный староста Константин из дер. Крюково. При отступлении немецких войск Старо-Уситовская церковь была немцами взорвана» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 70–71).
Как видно из этой информации, при своем отступлении гитлеровцы не испытывали никакого уважения к русским религиозным святыням. Они уничтожались так же, как и дома мирных жителей, промышленные предприятия.
Полновский район — единственный, по которому в этом «Сборнике материалов» информация о положении Церкви отсутствует.
Порховский район являлся одним из самых значительных на Псковщине по численности населения. Однако и здесь первое предложение раздела «О борьбе с церковниками» сформулировано следующим образом: «Перед войной в Порховском районе и в г. Порхове действующих церквей не было» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 77).
Именно здесь гитлеровцы и их помощники из «Псковской православной миссии» развернули наиболее активную работу. «В течение 1941-42 гг. были открыты Никольская церковь и Благовещенский собор в г. Порхове. Церкви в деревнях: Бельское-Устье, Александровка, Гарамулино, Ясени, Жабры, Вородовицы, Демянка, Подоклинье, Крекшино, Береза, Березка, Сырковичи и Буриги. Все эти 17 церквей обслуживались 11 священниками, часть которых являлась местными жителями, а остальные присланы „православной миссией“ в городе Пскове.
Выполняя указания Псковской „православной миссии“, духовенство вело антисоветскую пропаганду и призывало население к беспрекословному подчинению немецким властям, молились за Гитлера о даровании ему победы над Красной Армией. Среди верующих церковными советами распространялись выпускаемые миссией печатные издания и, в частности, в журнале „Православные христиане“ (Так в тексте. Правильно „Православный христианин“. — Б. К. ), в котором печатались статьи антисоветского содержания» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 77–78).
Любая открытая связь русских священников-коллаборационистов с немецкими оккупационными экономическими, политическими и разведывательными структурами со стороны Псковской православной миссии не приветствовалась. «Духовенство в лице Студентова и церковный актив в лице старосты Никольской церкви Лядина было привлечено к участию в созданном в Порхове „Русском комитете“.
Однако по указанию прибывшего в город представителя миссии им было запрещено дальнейшее участие в заседаниях комитета, что объяснялось особыми указаниями миссии, предусматривающими зашифровку связей духовенства с официальными немецкими учреждениями и контрразведывательными организациями» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 78).
В Плюсском районе во время оккупации были открыты 3 церкви: в деревнях По-солодино, Нежадво, Погорелово. Все эти храмы, согласно информации из «Сборника материалов», обслуживал «назначенный Псковской православной миссией на должность священника „отец Фёдор“ — Михайлов Фёдор Михайлович. Читая проповеди, Михайлов призывал верующих оказывать всяческое содействие оккупационным властям, клеветал на советский строй, партию и правительство.
В конце 1943 года с развитием партизанского движения Михайлов бежал из района. В настоящее время в церквях проводит службы священник Евдокимов Д. П., 1883 г. рожд., уроженец дер. Сидорово Каменского района Калининской области. Прибыл в район в конце 1943 года» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 93).
Особое внимание в своем отчете чекисты уделили Псковскому району. Ведь именно здесь находились их главные противники в борьбе за души верующих. «В конце августа 1941 года в г. Пскове немцы создали так называемую „Православную миссию“, которая руководила всей церковной деятельностью на территории оккупированных районов Ленинградской области.
Миссию возглавляли священнослужители, прибывшие из Прибалтики, а именно: протоиерей Заяц Кирилл; секретарь и заместитель начальника миссии Бенигсен Георгий; члены миссии — Жунда Николай, Лёгкий Иван и Шенрок Николай; председатель ревизионной комиссии Шаховский Константин.
Официальными задачами миссии были: открытие церквей, их ремонт и снабжение необходимым инвентарем, подбор священников и посылка их на службу в районы по церквям» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 101).
И если на местах большинство православных батюшек всячески саботировали распоряжения как немецких властей, так и руководителей Псковской православной миссии, в самом Пскове связь между священниками и немецкими офицерами была весьма тесной. «Агентурно-следственным путем установлено, что „Церковная миссия“ фактически являлась филиалом „СД“. Большинство священников открыто вели профашистскую агитацию, восхваляли Гитлера и наряду с этим собирали и передавали „СД“ сведения о политических настроениях населения. Главари миссии, в том числе Кирилл Заяц (арестован), были завербованы и давали подписку о сотрудничестве с немецкой контрразведкой» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 101).
В сборнике материалов особо отмечено, что Псковская православная миссия занималась и вопросами катехизации, затрагивавшей как взрослых, так и детей. «В городе Пскове при Кафедральном Троицком Соборе, при Дмитриевской и Варлаамской церквях были созданы детские церковные кружки. Они делились на две группы: к первой группе относились дети первых двух классов, которые, в основном, занимались изучением молитв, и только изредка с ними проводили беседы на политические темы.
Вторая, более взрослая группа, занималась разбором книг религиозного антисоветского содержания. Эти детские кружки имели девиз „За Русь, за веру“. Одним из активных руководителей кружков была Матвеева Раиса Ионовна, ранее проживавшая в г. Нарва» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 102).
Однако гитлеровцы рассматривали это как некое побочное занятие. Перед наступлением Красной армии часть церковного имущества была гитлеровцами уничтожена, а часть, по сути, украдена. «В г. Пскове за период оккупации было открыто 10 церквей, по району — 5. Перед отступлением большинство церквей немцы взорвали, всю ценную утварь, иконы и даже мощи из Кафедрального собора вывезли в Германию» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 102).
В Середкинскиом районе не все священники ушли с немцами.
«После оккупации немцами там были открыты следующие церкви: Боровиковская, Мельницкая, Заходская, Бельская, Ремдовская. В настоящее время ни одна из них не функционирует.
Священник Сарапов Николай Петрович, 1877 г. рожд., прибыл из г. Пскова. В данное время проживает в Полновском районе и служит в Гвоздненской церкви, которую посещают также верующие Середкинского района.
Священник Богданов Илья Фомич, 1889 г. рожд., проживает в Новосельском районе, дер. Выводы, служит в Вельской церкви.
Остальные попы бежали с немцами» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 111).
В «Сборнике материалов» постоянно отмечается, какие священники являются местными жителями или хотя бы гражданами СССР, а какие прибыли из Прибалтики. «Славковский район. Активную помощь немцам оказывали контрреволюционно настроенные церковники. В район часто приезжали священники из Прибалтики, занимавшиеся профашистской агитацией с амвона.
До оккупации в районе действующих церквей и легальных религиозных сект не было. С приходом немцев открылись 4 церкви: в пос. Славковичи, в дер. Демини-цы, дер. Теребоша и Слобода. Богослужения проводили: протоиерей Рушанов Василий, 35 лет, ввезен немцами из Латвии, в район прибыл в сентябре месяце 1941 года из г. Пскова, постоянно в районе не жил, бывал наездами.
Руководитель „Псковской православной миссии“ протоиерей Кирилл Заяц — приезжал изредка. Священник Николай Успенский, уроженец дер. Жабры Порховского района. Священник Пращиков Иван, до войны проживал в г. Ленинграде» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 117).
До войны в Стругокрасненском районе действующих церквей не было. За время оккупации района немцами было открыто 6 церквей, которые обслуживались двумя священниками. Ленинградские чекисты стали собирать материалы на всех церковных активистов и священнослужителей. «В настоящее время действует только одна церковь в дер. Павы. В составе церковного актива состоят: Павской церкви — староста Емельянов Алексей и Курашева Ольга, по Хрединской церкви — староста Поляков Василий.
Священник Крушников служил в церквях деревень: Павы, Хредино и Воротно. Проживающий в районе священник Фессак до войны работал бухгалтером в военторге в г. Пушкине. При немцах Фессак через „Псковскую православную миссию“ поступил на должность священника Павской церкви.
По агентурным данным Фессак подарил в пользу немецкой армии золотой крест, возносил благодарности Гитлеру, убеждал народ, что большевики больше не вернутся, Красная Армия разбита и поэтому воевать большевикам нечем.
Священник Крушников выехал с немцами в их тыл, Фессак разрабатывается» (АУФСБ СПбЛО. Д. 2024. Л. 131–132).
Патриотическая миссия Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и почти полное отсутствие атеистической пропаганды в эти годы способствовали тому, что большинством населения страны религия не воспринималась как нечто чуждое и вредное. Осознавали это и многие чекисты. В первые послевоенные годы, когда сотрудники советских органов госбезопасности активно занимались розыском лиц, совершивших тяжкие преступления, не имеющие срока давности: карателей, активных пособников врага, «работа» по церковной линии многим из сотрудников казалась чем-то совершенно ненужным и даже вредным. Но соответствующие отделы в КГБ СССР были ликвидированы только в 1955 г.
Список литературы Церковь и советские органы государственной безопасности во время Ленинградской битвы (1941-1944 гг.)
- АУФСБ НО - Архив Управления ФСБ РФ по Новгородской области. Ф. 7. Д. 33.
- АУФСБ СПбЛО - Архив Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ф. 21/12. Оп. 2. пор. № 27; Д. 2024.
- ГАНИНО - Государственный архив новейшей истории Новгородской области. Ф. 225. Оп. 5. Д. 6; Ф. 260. Оп. 1. Д. 201.
- Елпатьевский (2015) - Елпатьевский А. В. Голубая Дивизия, военнопленные и интернированные испанцы в СССР. СПб., 2015.
- Лихачев (2006) - Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 2006.
- Люди сталинской эпохи о религии (1940) - Люди сталинской эпохи о религии. Л., 1940.
- Якунин (2004) - Якунин В. Н. Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тольятти, 2004.