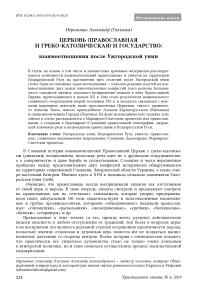Церковь (православная и греко-католическая) и государство: взаимоотношения после Ужгородской унии
Автор: Галушка Александр Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 6 (89), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе в том числе и неизвестных архивных материалов рассматриваются особенности взаимоотношений православных и униатов на территории Подкарпатской Руси на протяжении трех столетий после Ужгородской унии (1646). Одна из основных задач исследования - показать реакцию властей на взаимоотношение двух самых многочисленных конфессий этого региона. Большое место отводится анализу массового возвращения униатов в лоно Православной Церкви, происходившего в начале ХХ в. Оно стало результатом национального славянского возрождения второй половины ХIХ в. и оказалось связанным с именами церковных деятелей, ныне прославленных Церковью: святого праведного Алексия Товта, святого преподобного Алексия Карпаторусского (Кабалюка) и священномученика Горазда (Павлика). На фоне исповеднического подвига этих святых в статье рассказывается о Мармарош-Сигетских процессах над православными, о создании в Ладомирове (Словакия) православной типографии, сыгравшей ключевую роль в возрождении православия в Подкарпатской Руси.
Ужгородская уния, подкарпатская русь, униаты, православные, славянское национальное возрождение, словакия, ладомирово, мармарош- сигетские процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/140246774
IDR: 140246774
Текст научной статьи Церковь (православная и греко-католическая) и государство: взаимоотношения после Ужгородской унии
В Словакии история взаимоотношений Православной Церкви с греко-католика-ми (униатами) неоднозначна, поскольку речь идет не о дружеском сотрудничестве, а о соперничестве и даже борьбе за существование. Сложные и часто нерешенные проблемы между представителями двух конфессий исторически обнаруживаются на территориях современной Словакии, Закарпатской области Украины, а также северо-восточной Венгрии. Именно здесь в XVII в. возникла печально знаменитая Ужгородская уния (1646).
Очевидно, что православные всегда воспринимали униатов как отступников от своей веры и народа. В свою очередь, униаты смотрели и продолжают смотреть на православных как на «отсталых» схизматиков, которые упорно придерживаются своих заблуждений. Об этом свидетельствуют и многочисленные насмешливые и грубые прозвища-клички, которыми «объединенные» называли православных: «схизматики», «раскольники», «несоединенные», «еретики», «батюшковы», «батюхи», «староверы» и др.
Православные в этих землях (а это, прежде всего, русины) действительно видели опасность в любом отступлении от традиций, тем более в вопросах веры: в их восприятии это являлось реальной угрозой сохранению идентичности народа, поскольку именно отцовская и дедовская вера помогла им не поддаться национальному давлению со стороны венгров. Позже история с очевидностью покажет, что практически все униатское духовенство стало не только очень лояльным к венгерской политике, но и само помогало осуществлять процесс насильственной мадьяризации.
Католическое священство воспринимало унию как шаг к полной латинизации русинского населения. Профессор М. Герка писал: «в реальной жизни латинское духовенство воспринимало униатов как католиков только наполовину, а унию только как временное решение на пути к полной латинизации» [Gerka, 2009, 20].
Стоит отметить, что полностью «на территории Чехословакии эта цель (присоединение православных к униатам — иером. А. ) не была достигнута или была достигнута лишь отчасти. После принятия унии само духовенство, получив некоторые обещанные привилегии и материальные выгоды, при этом отдалило себя от простого верующего народа. В течение первых ста лет существования Ужгородской унии католическая иерархия делала все возможное, чтобы подчинить себе Мукачевских епископов. А католическое духовенство, в свою очередь, стремилось унизить греко-католиков, показать их конфессиональную неполноценность и подчинить себе» [Петрусевич, 2012, 86].
Поэтому весьма закономерно, что народ и часть духовенства не принимали унию. К примеру, в 60-х гг. XVIII в. в окрестностях Мармароша даже поднялось восстание во главе с монахом Софронием.
О том, что уния даже через 100 лет существования не была способна укрепиться в местном народе, свидетельствует и тот факт, что в записях XVIII в. находятся сведения о существовании большого количества «несоединенных» (православных) храмов: Grichische nicht unirte — «греческих не соединенных». Историк Я. Корабин-ский издал в 1786 г. лексикон, в котором представил список городских храмов всей Венгрии. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что на территории нынешней Словакии действовало в 1786 г. 11 храмов, принадлежавших униатам (Griechisch-Nicht-Unierte — «греческих соединенных»), и 175 православных (Griechisch-Nicht-Unierte — «греческих не соединенных») [Horkaj, Pružinský, 1998, 45–46].
Но эти факты не должны быть восприняты как свидетельство того, что униатские и католические «миссионеры» проявляли слабую активность и что давление со стороны католической аристократии было слабее. Все это говорит лишь о мудрости народной, о его силе, о том, что он понимал всю опасность унии, — люди стремились к сохранению своей религиозной и национальной идентичности. «Историческая реальность такова, что эта недобрая и тяжелая обстановка жизни русинов и словаков под властью Австро-Венгрии дала людям силу к национальному пробуждению. Побуждала людей интересоваться своей историей, побуждала выйти из церковной унии с Римом и официально возобновить деятельность Православной Церкви. Прежде всего, это была борьба за сохранение собственной национальной идентичности и верность традициям своих предков. На этот вопрос можно взглянуть с разных точек зрения. Но прежде всего надо осознать, что простые прихожане на своих богослужениях всегда молились по-православному так, как было написано в книгах — таких же, как и в России, Сербии, Болгарии или Константинополе. В этом (стремлении к возвращению в православие) не было никакого давления извне, но только стремление приобрести заново то, что у них насильственно когда-то было отнято без их ведома и согласия» [Gerka, 1998, 9].
Гнет унии заключался в том, что православным было запрещено строить каменные храмы, они могли возводить лишь деревянные, и без использования металлических гвоздей. Благодаря этому в карпатском регионе возникла и сохранилась удивительная самобытная архитектура деревянных церквей. Первые каменные храмы в русинских деревнях стали появляться только после 1700 г. Безусловно, все они были построены как униатские, поскольку разрешение на постройку каменного храма выдавалось только греко-католическому приходу. Например, в д. Збудска Бела был в 1770 г. построен каменный униатский храм. До этого там находился деревянный православный храм, который сгорел1. Похожий сценарий повторялся во многих селениях. Имущество православных (храмы, приходские дома и др.) было передано униатам.
В XVIII в. на австро-венгерский престол была возведена Мария Терезия (1717– 1780), известная как ревностная католичка. Именно при ее правлении началось последовательное, зачастую насильственное насаждение унии, вместе с тем начался и процесс латинизации самих униатов. Из храмов выбрасывали иконостасы, «исправляли» православные книги, переходили на новый — григорианский календарь, был заведен праздник поклонения Святейшей Евхаристии — Святым Дарам, священнослужители отчасти начали пользоваться западным облачением, в восточный обряд была введена молитва розария и т. д.
Не только католики и униатское духовенство оказывали давление, но и местные власти старались любыми путями утверждать и приводить к «единству с Римской Матерью-Церковью» наибольшее количество людей. Пользовались тем, что зачастую необразованное русинское население не знало о том, что их приход перешел в унию. Пока священник на богослужении пользовался православными текстами, которые многие неграмотные верующие знали наизусть, и пока поминал на литургии «всех православных христиан», никто даже не подозревал, что священник или приход отступили от православной веры. Профессор Петер Корманик утверждает, что после того как Греко-католическая церковь начала вводить новшества в богослужебные тексты, народ стал проявлять недовольство и продолжал различными способами приобретать богослужебные книги из Киева, Почаевской лавры или даже Москвы [Kormaník, 2002, 316–320].
После изгнания из города Мукачево православных епископов центр православной епархии постоянно перемещался в разные города и монастыри. Так, например, Мука-чевский православный епископ Мефодий (Раковецкий) в 1690 г. перенес свою кафедру в г. Мармарош. Последний православный Мукачевский епископ Досифей (Феодорович) перенес центр православия в Угольский монастырь в Закарпатье [Пронин, 2005, 265]. После смерти еп. Досифея, который был замучен в 1735 г. в Хустском замке, государственная власть не разрешила православным избрать преемника. Таким образом, православие на северо-востоке Словакии и в Закарпатье перестало существовать официально. Богослужения совершались тайно, Церковь ушла «в подполье».
Из-за постоянных междоусобиц и споров в 1781 г. австро-венгерским императором Иосифом II был принят «Патент о толерантности», который до некоторой степени признал существование и других Церквей, помимо Католической, и дал им ограниченные права. Речь идет о признании протестантских церквей Аугсбургского и Гельветского вероисповедания (кальвинистов) и Православной Церкви. При этом, без сомнения, Католическая Церковь оставалась и далее единственной общественной и государственной религией.
Народ же продолжал называть свою веру «русской», и в его понимании понятия «русский» и «православный» воспринимались как синонимические2. В ХIХ в. «славянское возрождение» дало импульс к тому, что в кругах интеллигенции, к которой преимущественно относилось и священство, возник интерес к православию. Хотя до этого ситуация была иной. Как писал видный словацкий писатель того времени С. Г. Ваянский, «священники, которые живут за счет русского3 народа и кормятся русским хлебом, за малым исключением почти все ренегаты. В их домах не слышно русского слова, своих детей воспитывают по-мадьярски, кириллице уже нет места в школах, учатся из русских букварей, но они в мадьярской транскрипции, и то не везде. В деревнях, которые покрупнее, обучение начинается по-мадьярски от самой азбуки» [Vajanský, 1977, 68].
Но только в начале XX в. активизируется движение за возвращение местного населения из греко-католической в православную веру, носившее в некоторых местах массовый характер. Так, в 1902 г. в д. Бехеров (Бардеевский район) перешло в православие большое количество людей, а затем и в д. Ладомирово (Свидницкий район); похожая ситуация была в 1903 г. и в закарпатской д. Иза (Хустский район). В 1904 г. приход в д. Великие Лучки недалеко от Мукачева, а затем и другие закарпатские и словацкие приходы перешли в лоно Православной Церкви. Историк М. Лупчо утверждает, что в 1912 г. Православная Церковь насчитывала уже около 30 000 верующих. Отметим, что большинство из них были в Закарпатской части региона. Перед Первой мировой войной Православная Церковь насчитывала в Словакии около 1500 верующих.
Во многом на это движение повлиял пример вернувшихся из Америки местных жителей, принявших там православие. В Америке в то время также началось массовое возвращение русинов в Православную Церковь. Возглавил это движение миннеаполь-ский греко-католический священник, родившийся в нынешней Словакии, Алексий Товт4. Те, кто возвращались на родину, вдохновляли местное население вернуться к прадедовской вере.
Возвратившиеся к Православной Церкви встречались со всяческими препятствиями. Униатские священники сотрудничали с местными жандармами и венгерскими властями. В 1903–1904 гг. венгерская администрация устроила Мармарош-Сигетский процесс, на котором были осуждены 22 православных верующих, которых обвинили в измене родине и восстании против Греко-католической церкви. Некоторых подвергли тюремному заключению, на других наложили денежные штрафы, часть обвиняемых отпустили под домашний арест под наблюдение местной полиции. В 1913–1914 гг. состоялся второй Мармарош-Сигетский процесс, на котором обвинили 94 человека, из них 54 человека были осуждены на разные наказания, тюремное заключение и денежные штрафы [Петрусевич, 2012, 87]. Главным подсудимым на втором Мармарош-Сигетском процессе стал иеромонах Алексий (Кабалюк)5, который открыто критиковал «униатскую веру».
В 1922 г. в северо-восточную Словакию в д. Ладомирова приезжает архим. Виталий (Максименко), выходец из Почаевской лавры, который оттуда вывез православную типографию и искал место для ее размещения. Постепенно в Ладомирове был построен храм, организован приход и типография. Это место становится одним из крупнейших центров русской эмиграции, и в 30-х гг. ХХ в. там формируется монашеская община — обитель прп. Иова Почаевского во Владимировой (как Ладомирово часто называли русские монахи). Эти события в значительной степени помогли распространению православного движения в Словакии. Главным послушанием братии было книгопечатание и социальная помощь бедному словацкому населению6. Монастырское братство организовывало новые приходы, строило храмы, преподавало Закон Божий.
Согласно переписи населения от 1930 г., православная Мукачево-Прешовская епархия насчитывала около 121 000 верующих и 115 церковных общин. Из этого числа на территории Подкарпатской Руси проживало 112 034 лиц православного вероисповедания, а на территории Словакии — 9076 православных верующих [Sčítanie ľudu, 1930]. В 1936 г. там уже насчитывалось 130 храмов и 5 монастырей [Православная церковь на Пряшевщине, 1949, 72].
Безусловно, униатское духовенство высказывало свое недовольство в связи с ростом численности православных. Так, в 1943 г. в г. Медзилаборце состоялось собрание римско-католического и греко-католического духовенства, в результате которого органам тогдашней государственной власти был адресован меморандум, которым собравшиеся попытались поставить вне закона Православную Церковь на территории сегодняшней Словакии [Horkaj, Pružinský, 1998, 153–154].
И Православная, и Греко-католическая церкви были национально разнородными. Но, как видно из статистики, некоторые национальности доминировали. Чтобы лучше представлять эти процессы, приведем статистику 1948 и 1950 гг., обращая при этом внимание только на православных и униатов.
Статистические данные отчетов Греко-католической церкви от 1948 г. утверждают, что в Чехословакии насчитывалось 305 645 верующих, 268 лиц белого духовенства. Согласно отчетам, приходов было 241 и приписных храмов (филиалов) — 1059. В Чехословакии осуществляли свою деятельность 2 униатских епископа. Из этого числа на территории Словакии насчитывалось 237 245 верующих, 239 приходов и 1055 филиалов.
Государственная статистика от 1 марта 1950 г. говорит, что в Чехословакии проживало 258 357 лиц, принадлежащих к Греко-католической церкви, из этого числа в самой Словакии — 225 495. По национальности три четверти греко-католиков являлись словаками, и некоторую часть представляли словакизированные русины/укра-инцы. 20% греко-католиков были русской или украинской национальности. К относительно многочисленным национальностям относились также венгры и др.
Согласно статистическим годовым отчетам Православной Церкви в Чехословакии, на 1 декабря 1948 г. осуществляло свою деятельность 45 полноценных приходов (церковных общин). На территории Словакии — 12 приходов, остальные 33 действовали в Чехии, Моравии и Силезии. По данным государственной переписи населения, на 1950 г. в Чехословацкой республике насчитывалось 58 365 православных верующих, из этого числа в Словакии было 7975 человек, а в Чешских землях — 50 365.
Если говорить о национальной идентичности, то в Чешских землях к Православной Церкви принадлежали чехи или моравы, бывшие верующие Чехословацкой церкви, выходцы из Римско-Католической Церкви, принявшие Православие, во главе которых был архиеп. Горазд (Матей Павлик), будущий священномученик. Также Чешская Церковь окормляла волынских чехов, эмигрировавших из Волынской области Украины и вернувшихся на родину в 1947 г., и значительную часть населения, принадлежавшую к Православной Церкви в Чехии, — русских и украинских эмигрантов. Среди православных насчитывалось 35 560 чехов, 7111 — русских и украинцев, 4825 — болгар и других национальностей. В Словакии большинство православных было из местного населения, которые вернулись из унии в Православную Церковь. Самой многочисленной нацией являлись русины/украинцы — 4205, затем словаки — 2076, болгары — 1270, и другие [Sčítanie ľudu, 1950].
Список литературы Церковь (православная и греко-католическая) и государство: взаимоотношения после Ужгородской унии
- Петрусевич (2012) - Петрусевич А. А. Православная Церковь в Чехословакии в 1945- 1998 гг. Дисс. … канд. богословия. Жировичи: Минская духовная академия, 2012. 202 с.
- Православная церковь на Пряшевщине (1949) - Православная церковь на Пряшевщине // Православный церковный календарь на 1950 год. Пряшев; Прага: Pražska eparchia, 1949. С. 72.
- Пронин (2005) - Василий (Пронин), архим. История Православной Церкви на Закарпатье. Мукачево: ОРП "Филокалиа", 2005. 524 с.
- Gerka (1998) - Gerka M. Pravoslavna cirkev na Slovensku // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. 1998. Roč 44. № 6. S. 20-27.
- Gerka (2009) - Gerka M. Slovinský anjel (Z dejín pravoslávnej cirkevnej obce Slovinky). Slovinky: Pravoslávna cirkevná obec Slovinky, 2009. 70 s.
- Haluška (2011) - Haluška A. Sociálna služba členov bratstva svätého Jóva Počajevského v Ladomirovej. Diplomová práca. Prešov, 2011. 65 s.
- Horkaj, Pružinský (1998) - Horkaj Š., Pružinský Š. Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19 a 20 storočí. Ľudia - udalosti - dokumenty. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 1998. 425 s.
- Kormaník (2002) - Kormaník P. Osudy bohoslužobných kníh po násilnom zavedení Užhorodskej únie v 17 storočí // Pravoslávny teologický zborník. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta. 2002. Zv. XXV (10). S. 309-382.
- Rusin (1972) - Rusin K. Father Alexis G. Toth and the Wilkes-Barre Litigations. Sz. Vlasimir's Theological Quarterly. 1972. № 3. Vol. 16. C. 128-149.
- Sčítanie ľudu (1930) - Sčítanie ľudu 1930. URL: http://sodb.infostat.sk/SODB_19212001/ slovak/1930/format.htm (дата обращения: 03.11.2019).
- Sčítanie ľudu (1950) - Sčítanie ľudu a súpis domov a bytov (1950). URL: http://sodb.infostat. sk/SODB_19212001/slovak/1950/format.htm (дата обращения: 03.11.2019).
- Vajanský (1977) - Vajanský S. H. Listy z Uhorska. Martin: Matica slovenská, 1977. 148 s.