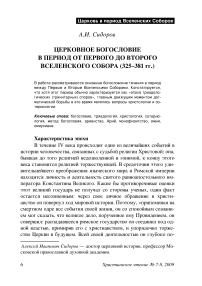Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского Собора (325–381 гг.)
Автор: Сидоров Алексей Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковь в период вселенских соборов
Статья в выпуске: 7-8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматриваются основные богословские течения в период между Первым и Вторым Вселенскими Соборами. Констатируется, что хотя этот период обычно характеризуется как «эпоха триадологических (тринитарных) споров», главным движущим моментом догматической борьбы в это время являлись вопросы христологии и сотериологии.
Богословие, триадология, христология, сотериология, метод богословия, арианство, арий, монофизитство, омии, омиусиане
Короткий адрес: https://sciup.org/140189866
IDR: 140189866
Текст научной статьи Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского Собора (325–381 гг.)
Характеристика эпохи
В течение IV века происходит одно из величайших событий в истории человечества, связанных с судьбой религии Христовой: она, бывшая до того религией недозволенной и гонимой, к концу этого века становится религией торжествующей. В средоточии этого удивительнейшего преображения языческого мира и Римской империи находится личность и деятельность святого равноапостольного императора Константина Великого. Какие бы противоречивые оценки этот великий государь не получал со стороны ученых, один факт остается несомненным: через свое личное обращение в христианство он повернул ход мировой истории. Поэтому, «припоминая на смертном одре все события своей жизни, он со спокойным сознанием мог сказать, что великое дело, порученное ему Провидением, он совершил: распадавшееся римское государство он соединил под одной властью, примирив его с христианством, и упорядочил торжество Церкви в будущем. Всей своей деятельностью он глубоко по-
Алексей Иванович Сидоров — доктор церковной истории, профессор Московской православной духовной академии.
влиял не только на историю язычества и христианства, но и на историю всего человечества, и поэтому после своей смерти он наследовал почести, редкие в истории: римский сенат возвел его в боги, ис -тория признала его Великим, а Церковь — равноапостольным»1. Благодаря св. Константину изменяются не только отношения Церкви и государства2, но и начинается процесс воцерковления этого государства и общества, который определил бытие Византии, а затем и святой Руси. Одним из стержневых моментов этого процесса было то, что Православие стало «не только объединяющим началом для византийского населения, но и, можно сказать, господствующей национальностью византийского государства, основной стихией народной жизни в Византии, ее глубочайшим и самым чутким нервом». Поэтому «властители Византии могли безнаказанно экспериментировать над имуществом, личностью и жизнью своих подданных, — народ все сносил и терпел; но горе им было, если они отваживались святотатственными руками прикоснуться к заветной святыне — православным догматам и канонам: тогда чувство боли пробегало по всему народному организму и сопровождалось более или менее сильными нестроениями во всех сферах государственной жиз- ни»3. Данный момент ярко проявляется в эпоху Вселенских Соборов, детерминируя, среди прочего, и ход развития православного богословия.
Однако нельзя не отметить и того, что эти мощные факторы воцерковления греко-римского общества шли рука об руку с также сильными факторами внутренних нестроений в Церкви. Духи злобы поднебесной никогда не оставляли, не оставляют и не будут остав -лять ее в покое, пока она существует на земле. Но если в доникей-скую эпоху напор их больше осуществлялся извне, принимая форму внешних гонений и притеснений христиан, то начиная с IV века центр тяжести такой духовной брани лукавых сил с Церковью перемещается внутрь: эта духовная брань становится преимущественно догматической борьбой. Обычно IV век обозначают как «век тринитарных (триадологических) споров »4 . Констатируя этот, казалось бы общеизвестный факт, следует учитывать два существенных момента.
Первый: догматические споры, как выражение духовной брани против Церкви, отнюдь не составляют всего содержания церковной жизни, а, соответственно, и богословской мысли указанного периода, как брань против злобы духов поднебесной не составляет всего содержания духовной жизни христианина. Ибо «освободившись от необходимости вести борьбу за внешнее существование, встречая со стороны государства уже не преследование, а покровительство и поддержку, Церковь получила возможность широкого и беспрепятственного развития разных сторон своей жизни… Богословская мысль представителей Церкви с особой энергией принимается за уяснение существенного содержания христианства как откровенной религии; наступает «золотой век» в истории древнехристианской науки патристической литературы»5. Поэтому, наверное, можно сказать, что догматические споры возникли (и обычно возникают) как защитная реакция Церкви, оберегающей свое внутреннее развитие. Ереси (как и расколы) не стимулируют это развитие, а, наоборот, препятствуют ему. Второй момент: схема «триа-дология — христология», фиксируемая В.В. Болотовым, является схемой скорее логической и абстрактной, чем реальной. Ибо в исторической реальности триадология и христология (опять же немыслимая без сотериологии) были столь тесно переплетены друг с другом, что их невозможно отделить друг от друга, и это ясно выступает в IV веке. Причем в данный век, составляющий целую эпоху, как и в доникейский период, христология (и сотериология) находятся в самом средоточии развития богословской мысли6. Вследствие чего обозначение периода от первого до второго Вселенского Собора как «эпохи триадологических споров» достаточно условно.
Арий и становление арианства
Оба этих момента можно наблюдать в арианских спорах. В происхождении арианской ереси и в личности самого ересиарха достаточно много загадочного. Связано это, в первую очередь, с тем, что от сочинений Ария и его сторонников сохранилось небольшое количество произведений (или их фрагментов) 7 . Подобное обстоятельство даёт основание некоторым западным исследователям сомневаться в истинности, как они говорят, «традиционного видения» данной ереси, сложившегося под влиянием оппонентов арианства, в первую очередь — под влиянием свт. Афанасия Великог о8 . Однако именно в таком традиционном (то есть православном ) видении и проявляется наиболее отчетливо как черты личности ересиарха, так и его лжеучения.
Основные факты его биографии известны, хотя много неясностей с восстановлением раннего периода жизни Ария9. Что же касается личности его, то одно из самых ярких описаний её встречается у свт. Епифания Кипрского: «Этот старик, напыщенный гордостию, сбился с прямого пути. Он был высок ростом, угрюм на вид, держал себя как хитрый змей и мог при помощи своего лукавого нрава увлечь всякое незлобивое сердце. Всегда одет он был в гемифорий и коловий, сладок был в беседе, всегда действуя на души убеждением и ласкательством»10. Церковный историк Созомен добавляет и еще одну черту — любовь к диалектике11. Таким образом, вырисовывается личность казалось бы даже вполне симпатичная: уважаемый пресвитер, отличающийся внешними подвигами телесной аскезы и носящий монашеское облачение, добрый в обращении, хорошо владеющий словом и, вероятно, сильный диспутант. Потому один наш ученый заметил об Арии: «Очевидно, последующие поколения ничего дурного не могли бы сказать о нём, если бы он не сделался виновником спора, который навсегда обратил его имя в синоним ужаснейшего отступления и проклятия; в этом споре прошла вся его дальнейшая жизнь; этот же спор, вероятно, вложил ему в первый раз в руки перо, чтобы защитить свое учение, сделав его писателем и даже поэтом»12. Однако в глубине этой на первый взгляд симпатичной личности таилась червоточина, верно подмеченная свт. Епифа-нием — гордыня. Она-то и послужила тем малым камешком, который вызвал обвал лавины церковных нестроений.
Насколько Арий был плодовитым писателем, сказать трудно, ибо от его сочинений дошло до нас, как уже отмечалось, очень немногое13. Эти остатки литературной деятельности ересиарха позволяли (и еще позволяют) строить, помимо всего прочего, различные гипотезы об истоках его лжеучения, некоторые из которых явно канули в лету. Так, в настоящее время уже вряд ли возможна та дилемма, которая вызвала горячий спор в нашей церковно-исторической науке и который кратко сводился к следующему: находятся ли эти истоки в Антиохийской школе или же ересь Ария определяется развитием Александрийской школы14. Причем данные школы мыс- лились именно как богословские направления, с присущими им специфичными чертами.
Что касается Антиохийской школы, то происхождение арианства связывалось с личностью св. Лукиана Антиохийского — пресвитера, дидаскала и мученика, учениками которого были многие видные представители арианствующего движения (Евсевий Никоми-дийский, Марк Халкидонский, Феогнис Никейский и др.) и которого некоторые западные исследователи называли «Арием до Ария»15. Однако следует учитывать два существенных обстоятельства: во-первых, св. Лукиан был преимущественно «текстологом Священного Писания» и относительно его догматических воззрений сохрани- лись очень скудные сведения; во всяком случае, из этих сведений можно заключить, что учение о Святой Троице этого прославленного мученика носило скорее антиарианский, чем протоарианский или проарианский характер. Во-вторых, Антиохийская школа, как богословское направление, начинается со св. Евстафия Антиохийского — одного из самых непримиримых врагов арианства, который стал первой жертвой так называемой «антиникейской реакции». Следовательно, один член указанной дилеммы отпадает и сама она, таким образом, перестает существовать.
Если же обратиться к Александрийской школе, то в определенной степени можно говорить о ней, как о цельном образовательном учреждении с преемственностью дидаскалов16, хотя и здесь существуют некоторые проблемные моменты17. Но вот говорить об Александрийской школе, как о некоем едином богословском течении, довольно сложно. Прежде всего, богословские взгляды Оригена развивались явно по совсем иной траектории, чем взгляды его предшественника Климента. Далее, из последующих александрийских дидаскалов Иракл (хотя о богословских взглядах его не сохранилось почти никаких сведений) и свт. Дионисий Александрийский существенным образом дистанцировались от основных интуиций миросозерцания Оригена, а часто находились и в оппозиции к его основным богословским посылкам18. Правда, два последующих ди-даскала — Феогност и Пиерий — находились преимущественно в русле воззрений Оригена19, но со свт. Петром Александрийским ма- ятник качнулся в другую сторону. «Он первый открыто восстаёт против основных заблуждений Оригена, ведёт долгую и упорную борьбу и приверженцами Оригеновской партии и, наконец, сообщает новое направление Александрийской школе. Но тот же Петр глу -боко уважает Оригена за его научные труды и разделяет его воззрения, чуждые крайности. Строго православный по своему направлению, он даёт ход Православию и оно при нём одерживает явную по-беду»20. Наконец, с Дидимом Слепцом Александрийская школа вновь возвращается к оригенизму, но это был её последний аккорд. Таким образом, как богословское направление Александрийская школа характеризуется диссонансом мировоззренческих тенденций, порой скрыто, а порой и открыто вступающих в конфликт друг с другом. Тем не менее, личность и миросозерцание Ария никак не вписывается в этот диссонанс. Единственной точкой пересечения арианского лжеучения и оригенистских интуиций является триадо-логия, но и здесь различие между Арием и Оригеном, по характеристике В.В.Болотова, «коренное и существенное», хотя нет и недостатка и в пунктах их соприкосновения21. Однако в христологии, со-териологии, эсхатологии и прочих догматических воззрениях взгляды двух ересиархов развивались часто в совсем противоположных направлениях. Поэтому искать в оригенизме истоки лжеучения Ария — занятие, на наш взгляд, довольно бессмысленное, хотя отдельные элементы его взглядов можно обнаружить как у греческих апологетов II века (например, у Афинагора), так и у представителей Александрийской школы22. Но дело не в отдельных элемен- тах, а в том, что сочетает их в единое целое, то есть как бы в «жиз -ненном принципе» арианства, который кардинально отличался от духа православного христианства.
В прошлом неоднократно предпринимались попытки видеть этот «жизненный принцип» арианства в философии23. И действительно, исследователи обнаруживают определенную рецепцию различных ответвлений античной философии (особенно, платонизма) у Ария24. Тем не менее, вряд ли такая рецепция детерминировала сущностные черты миросозерцания ересиарха25. Конечно, весомый элемент рассудочной изворотливости присутствовал в его миросозерцании, но Арий все же пытался опираться на Священное Писание и, насколько это было возможно, на церковное Предание. В опреде- ленной степени можно сказать, что целью его было «развить основанный на Писании и рационально последовательный катехизис»26. В том-то и состояла опасность этой «архетипической ереси», что она предстала в обличии церковности, будучи по сути своей «рационализирующей псевдоцерковностью». И не случайно церковный историк Сократ, говоря об ересиархе, замечает: «Новыми умозаключениями он возбудил многих к исследованию — и малая искра превратилась в великий пожар»27. Примечательно, что великие искушения в Церкви IV века начались с казалось бы безобидной богословской дискуссии, где свт. Александр Александрийский выступил первоначально в качестве третейского судьи в споре Ария и его оппонентов. По свидетельству Созомена, Арий высказал главный свой тезис: «Сын Божий произошел из несущего, и было время, когда Его не было. По самопроизволению Он способен ко злу и добродетели. Он есть создание и тварь». Далее этот историк продолжает: «Вероятно, много и другого говорил Арий, когда подтверждал свои мнения и рассуждал о каждом из этих вопросов. Некоторые, слыша подобные выражения, начали порицать Александра, зачем он, вопреки долгу, терпит нововведения в догмате. Александр, признав за лучшее в деле сомнительном дать волю говорить той и другой стороне, чтобы устранить мысль о принуждении и примирить спорящих убеждением, сел как судья, вместе с клириками, и ввел обе стороны в состязание. Но в словесных спорах обыкновенно всякий старается одержать победу. Арий защищал высказанные им положения, а прочие доказывали, что Сын единосущен и совечен Отцу. Было и другое заседание и рассуждение о тех же вопросах: но спорившие опять не сошлись между собою. Так как рассматриваемый предмет казался очень сомнительным, то сперва колебался несколько и Александр, похваляя иногда одних, иногда других: но, наконец, присоединившись к стороне тех, которые утверждали, что Сын единосущен и со-вечен Отцу, он приказал, чтобы и Арий, оставив противоречия, мыслил таким же образом. Однако же Арий не слушался, тем более, что около него было уже много епископов и клира, которые думали, что он говорит правильно. Поэтому Александр отлучил от Церкви как его самого, так и клириков, державших в догмате его сторону»28.
Эта пространная выдержка из труда Созомена хорошо показывает детали генезиса арианства: искру богословской дискуссии превратило в пламя пожара догматических споров непослушание пресвитера своему владыке, который, кстати, «руководил прениями с большой умеренностью и благожеланием»29. Конечно, как всегда в истории Церкви, идейные расхождения сильно осложнялись и запутывались личными отношениями, ибо Арий в прошлом был соперником свт. Александра в качестве кандидата на Александрийскую ка-федру30. К тому же Арий чувствовал за собой поддержку определенной части александрийского клира и мирян, поскольку, по словам свт. Епифания, он «отвлек от Церкви для единения с собою девственниц числом семьсот. Есть слух, что он же увлек еще семь пресвитеров и двенадцать диаконов. Яд его достиг даже и до епископов. Ибо он убедил Секунда Пентапольского и других действовать вместе с ним»31. Однако, сколько бы важными и весомыми не были эти личные и церковно-политические обстоятельства, последующий ход развития событий в Церкви определили не они, а принципиальное догматическое противостояние.
Высказывая свои положения о том, что «некогда было, когда Сына не было» и что Сын произошел «из несущего» (_ex o_uk @ontwn), а потому есть Тварь (хотя Тварь исключительная, превышающая все прочие твари), Арий «выходит из понятия Бога, как абсолютно единой Первопричины всего сущего. Бог, как таковой, нерожден, безначален, неизменяем и один только в собственном первоисточном смысле владеет бессмертием, премудростью, всемогуществом, благостью и другими совершенствами. И ничто из происшедшего не может сравниться с Ним, ни по субстанции, ни по славе, ни по веч -ности, потому что это противоречило бы идее единства Божия, простоты и неизменяемости. Понятие простоты и неизменяемости, по его мнению, не допускает и рождения в смысле сообщения божественного существа. Естественно, что для Сына остается только творческая сила Отца. И хотя один только Сын произведен действием творческой силы самого Отца, тем не менее Он принадлежит к разряду творений»32. Рассматриваемое в таком ракурсе, лжеучение Ария производит впечатление скучного и достаточно унылого философствования, прикрываемого фиговым листочком библейских цитат. И не случайно А.А. Спасский охарактеризовал это лжеучение следующим образом: «Догматика Ария проста до чрезвычайности, ясна до прозрачности, и в то же время суха и скудна содержанием, как логическая формула»33. Но в таком случае остаётся непонятным, каким образом эта «логическая формула» увлекла не только Ария, но и достаточно большое количество его приверженцев, ибо подобные формулы сами по себе в истории остаются уделом немногих чудаков, не привлекая к себе массы.
Попыткой обнаружить внутренний движущий мотив арианства, являются работы двух американских исследователей, которые постарались обрисовать сотериологическую подоплеку арианской ереси34. Согласно этим двум исследователям, суть христоло-гических и сотериологических заблуждений ранних ариан (которые, естественно, находились в органической связи с их заблуждениями триадологическими) можно обозначить так: называя Сына «Богом» без артикля (Ye)oq), они подразумевали, что Он является «божественным» (y^eioq). Кроме того, по их учению, только Бог Отец не может изменяться (непреложен — @atreptoq), а Сын — изменчив (trept)oq), как прочие твари. Поэтому, нарушая онтологическое единство Отца и Сына, Арий и его сторонники тяготели к адопци-анству, полагая, что Христос стал Сыном Божиим «по причастию», вследствие Своего нравственного преуспеяния (prokop)h). — Если эта христологическая и сотериологческая подоплека первоначальных арианских заблуждений соответствует истине, то резюме подобных заблуждений сводится к одной незатейливой фразе: Христос, как Тварь, спасает прочие твари. Или, перефразируя известное положение античной философии: «подобное познается подобным», содержание арианской сотериологии сводится к формуле: «подобное спасается подобным». Каковы истоки такой еретической хри- стологии и сотериологии — иудеохристианская «ангелохристоло-гия» или адопцианство Павла Самосатского35 — не очень важно. Главное состоит в том, что такая еретическая концепция вступала в непримиримое противоречие со всей православной сотериологией вообще и с идеей обожения в частности.
И не случайно свт. Александр Александрийский в своем послании, передаваемом блаж. Феодорито м36 , пишет об Арии и его последователях: «Осуждая все апостольское благочестивое учение и, подобно иудеям, составив христоборственное сборище, они отвергают Божество Спасителя нашего и проповедуют, что Он равен всем людям . Собирая все места Писания, в которых говорится о спасительном Его Домостроительстве и уничижении ради нас, они этими местами стараются подтверждать нечестивую свою проповедь, а от выражений, говорящих об исконной Его Божественности и неизреченной славе у Отца, отвращаются »37 . Сотериологическая подоплека конфликта Ария с Православием, защищаемым свт. Александром и иже с ним, здесь явно выступает наружу. Кроме того, обнаруживается также и экзегетическая составляющая догматических споров, поскольку в таком идейном столкновении речь постоянно шла о правильном понимании и изъяснении Священного Писани я38 .
В творениях преемника свт. Александра Александрийского — свт. Афанасия Великого, удивительной личности даже среди неисчислимого сонма осиянных благодатью Божией отцов39, — также прояв- ляются обе эти существенные черты догматической борьбы IV века. Противостояние двух сотериологических позиций в этой борьбе один наш православный ученый выразил следующим образом: «Ариане верили в совершение дела нашего искупления, но представляли его таким делом, которое мог вполне совершить вымышленный ими посредник между Богом и миром — тварь. Свт. Афанасий, напротив, показывает, что дело искупления людей есть столь великое дело, что его не могла исполнить никакая тварь, сколько бы ни была она высока по своему достоинству в ряду прочих тварей — что это дело мог совершить только Бог»40. Ересь арианства для свт. Афанасия, как и для всех православных богословов, была неприемлемой в первую очередь именно потому, что она не только искажала, но и прямо уничтожала душу и сердце христианского Благовестия — учение о спасении. А согласно Александрийскому святителю, «спасение людей было возможно только при условии внутреннего перерождения всей человеческой природы чрез соединение ее с высшей Божественной силой. Лишь соединение человека в тайне Боговоплощения с Божественностью, препобеждающей осуждение и немощь естества, могло даровать ему спасение»41. Та- кая сотериологческая перспектива немыслима без идеи обожения, которую свт. Афанасий (вслед за свт. Иринеем) развивал и защищал с неутомимой энергией42. Помимо этого, сотериология и христология святителя определяла его экзегезу, хотя, в свою очередь, толкование Священного Писания уходило у него своими корнями в учение о Боге Слове воплотившимся43. Среди подлинных творений Александрийского почти нет экзегетических, в прямом смысле этого слова произведений, но его блестящее знание Писания позволило ему во всеоружии противостоять арианской лжеэкзегезе44.
Как известно, столкновение Ария со свт. Александром Александрийским и опекаемым им молодым диаконом Афанасием, уже тогда проявившим себя в качестве сильного богослова, быстро выплеснулось за пределы Египта и привело к созыву первого Вселенского Собора. События, развернувшиеся до Собора и на нём самом, достаточно хорошо описаны. Не касаясь их, можно только сказать, что сам Никейский символ, дополненный позднее на втором Вселенском Соборе, представляет собою, по точности, ясности и глубине формулировок, несомненный богословский шедевр, невозможный без действия Святого Духа, Который достоверно показал, как сила Божия в немощи человеческой совершается. И само собою разумеется, что «постановление Первого Вселенского Собора имеет огромное значение, потому что оно утвердило учение о единстве и равнобожественности Отца и Сына и Их совечности и ввело в богословие понятие единосущия, точно выражающее объективное единство Троицы»45. Помимо всего прочего, Никео-Цареградский символ веры, по сравнению с предшествующими крещальными символами, обрел совсем иное качество: он стал «тестом Православия»46, на который ориентировались все последующие соборные изложения православного вероучения и который, что следует особо подчеркнуть, превратился в неотъемлемую и важнейшую часть литургической жизни Церкви. Могло создаться впечатление, что точка в догматических спорах поставлена: «Никейский Собор окончил свои великие деяния; ересь обличена, разногласие примирено; составлены и по всему христианскому миру разосланы правила для руководства Церкви; непокорные голосу Собора — наказаны. Казалось бы, теперь всюду в Церкви должен был водвориться мир, которого так сильно желали император и созванные им епископы. К сожалению, это благочестивое желание друзей мира не было удовлетворено вполне, или, если и было удовлетворено, то весьма ненадолго»47. Началась новая фаза догматических споров.
Арий нашел себе серьёзных покровителей среди ряда восточных епископов, из которых выделялся в первую очередь Евсевий Никомидийский. Необычно изворотливый и ловкий политик, он был слабым богословом, но личностью, вероятно, притягательной48. На Никейском соборе он лицемерно подписал символ, но отказался подписать анафематствование Ария, а поэтому был сослан; однако вскоре Евсевий вернулся, сумел завоевать расположение Констан- тина Великого и, по сути дела, возглавил «антиникейскую реакцию». Тезка его, Евсевий Кесарийский, был не менее влиятелен. Ибо «Евсевия Кесарийского Константин чтил искренно, как человека чрезвычайно полезного для победы христианства над миром языческой культуры и для закрепления и углубления государственного значения Церкви, чего особенно хотел достичь Константин. Ему импонировал Евсевий энциклопедическим знанием наук: эллинской литературы, философии, истории, хронологии, текста и экзегезы Библии»49. Заслуженно стяжав славу «отца церковной истории», Евсевий, тем не менее, и до собора поддерживал Ария, и при начавшемся антиникейском движении стал на сторону его, считая, что, поддержанное большинством епископов, это движение способно обеспечить мир в Церкви50. К этому антиникейскому движению примкнуло много и других восточных епископов, которые упорно отказывались называть себя «арианами». Свт. Афанасий цитирует одно послание их, где говорится: «Не были мы последователями Ариевыми; ибо как нам, быв епископами, последовать пресвитеру? Не принимали мы иной какой-либо веры, кроме переданной изначала; напротив того, став последователями веры его [Ария — А.С.], ско- рее сами приблизили его к себе, нежели ему последовали»51. Консервативный настрой основной массы «антиникейцев», которых соединяли с Арием порой чисто личные или конъюнктурные соображения, ощущается здесь достаточно ясно.
С богословской точки зрения антиникейское движение также было очень пестрым. По словам А. Орлова, «не только общий состав антиникейской коалиции, но и убеждения отдельных ее представителей, даже выдающихся по своей учености и влиянию, отличались крайней спутанностью и неустойчивостью: характерным примером в данном случае является Евстафий Севастийский, в течение своей долгой жизни стоявший и под никейским, и под арианским, и под омиусианским и евномианским знаменами. Несмотря на внутреннюю противоречивость и спутанность богословских воззрений у различных представителей характеризуемой группы, одна общая черта объединяла ее в одно целое: отчасти подозрительное, а отчасти и прямо отрицательное отношение к никео-афанасиевской идее “единосущия” »52 . Конечно, в этой пестрой коалиции были люди, последовательно отстаивающие главные принципы арианского лжеучения: таковым являлся, например, Астерий Софист, упорно защищавший, среди прочего, и намеченную выше арианскую сотериоло-ги ю53 . Но они были скорее исключением, чем правилом. Многие представители «антиникейской реакции» позднее примкнули к «омиям», защищавшим, против никейского единосущия, только подобие Сына Отцу.
Защитники Никейского символа веры
Стан защитников Никейской веры был более сплоченным, хотя и их богословские позиции не всегда отличались однородностью. Если так можно сказать, на «полюсе чистого Православия» находилась благодатная личность свт. Афанасия. Защита единосу- щия трёх Лиц Святой Троицы, как уже указывалось, целиком и полностью основывалось на сотериологии и христологии54. Конечно, главное значение этого святителя — в раскрытии православной три-адологии. Здесь важно подчеркнуть, что «догмат Троичности или, точнее, догмат Триединства свт. Афанасий признавал исключительно христианским, а в христианстве самым основным. Он называл его самым первоначальным Преданием, учением и верою вселенской Церкви. Св. Троица, по нему, есть основание христианской Церкви, а потому кто отпадает от Нее, тот не может быть членом христианской Церкви и носить имя христианина»55. Несомненно, идея искупления, немыслимая, естественно, без идеи обожения, составляла одно из центральных тем всего богословского миросозерцания Александрийского святителя. Для него несомненным фактом было то, что «Христос таинственно живет и действует в каждом верующем. Своею смертию и воскресением Он, конечно, даровал нам победу над смертию, жизнь вечную и блаженство, но этим еще не исторгнуты от смерти все в частности лица, словом — искупление, хотя и совершено для человеческого рода, но оно должно быть усвоено каждым человеком в частности»56. Данная идея искупления находится в зависимости от онтологии свт. Афанасия, в которой отношения Бога к твари мыслятся в диалектической связке инаково-сти и близости; но здесь наличествует не только диалектическая, но и диалогическая связь: род человеческий не только пассивно воспринимает благодать Божию, но активно участвует в этом диалоге Бога и твари57. Подобный диалог для святителя немыслим без подвижничества, в котором свободная воля активно взаимодействует с благодатью58.
Соратником Александрийского святителя был свт. Евстафий Антиохийский, которого свт. Афанасий называет «исповедником и благочестивым в вере мужем»59; перемещенный с Берийской кафедры на Антиохийскую, вероятно, в 324 г., он сразу же собрал поместный собор, осудивший Ария60. На Никейском Соборе он занимал одно из первенствующих мест, входя в ту группу почтенных архиереев, в которую обычно включаются «образованные защитники Православия, хорошо понимавшие, в чем состоит сущность арианской ереси и какими средствами должно бороться против нее»61. После Собора он вступил в полемику с Евсевием Кесарийским, о которой Сократ говорит так: «Антиохийский епископ укорял Евсевия Памфила в том, что он искажает Никейскую веру. А Евсевий говорил, что не преступает ее, и нападал на Евстафия, как на водителя Савеллиевой ереси»62. Судя по всему, эта полемика, которая шла рука об руку с «чисткой» Евстафием своего клира от всяких «ариан-обезумствующих»63, подготовила свержение Антиохийского архипастыря. «Восточные епископы, по понятным причинам, чутко прислушивались к этой полемике. Будучи же в своей массе настроенными оппозиционно по отношению к учению о единосущии, они в душе, или открыто, становились на сторону Евсевия»64. И как только представился случай (произошло это, скорее всего, в 330 г.), свт. Евстафий был лишен кафедры и отправлен в ссылку, где и скончался, став первой жертвой «антиникейской реакции». По словам Златоустого отца, написавшего «Похвалу святому Евстафию», арианствующие, «не в силах будучи противиться мудрости Евстафия и видя, что укрепления охраняются, изгоняют, наконец, проповедника из города»65. Причиной этого изгнания, несомненно, служила непоколебимость свт. Евстафия в защите Никейского символа веры, хотя формальные обвинения его носили совсем иной характер66.
Можно еще отметить, что свт. Евстафий, которого следует считать родоначальником Антиохийского богословского направления, был достаточно плодовитым писателем. Однако в полном виде сохранилось только одно его сочинение — «Об Аэндорской чревовещательнице против Оригена», где он критикует стиль экзегезы александрийского «дидаскала». Прочие творения Антиохийского святителя сохранились лишь во фрагментах, что весьма затрудняет адекватную реконструкцию его богословских взглядо в67 . Если попытаться кратко суммировать эти взгляды, то можно сказать, что свт. Евстафий предельно подчеркивает единство Отца и Сына по
Божеству, указывая следующий момент: Сын по прироДе есть истинный Сын Божий (f)usei Ye^ou gn)hsioq U+i)oq). О Святом Духе как Лице Святой Троицы Антиохийский предстоятель говорит реже, хотя и упоминает о Нем. Момент ипостасного бытия Сына оттеняется им слабее, чем единосущие Его с Отцом, и у него встречаются отзвуки идей греческих апологетов II в. (особенно, свт. Феофила Антиохийского), что Слово (или Премудрость) есть Сила (d)unamiq) Отца, рожденная для творения мира. Именно это, вероятно, и давало основание Евсевию Кесарийскому обвинять свт. Евстафия в «са-веллианстве»68. Впрочем, центр тяжести его богословия находился не столько в учении о Святой Троице, сколько в христологии. При- знавая во Христе две природы, святитель обозначает их различными понятиями; причем человечество Христа описывается им не только как «Человек» (+o @anyrwpoq), но и как «Человек Христа», и даже как «человеческое орудие» (t9o _anyr)wpinon @organon), а иногда — как «храм», «скиния» и «жилище». Что особенно важно в христоло-гии свт. Евстафия, так это — постоянный акцент на полноте чело -веческого естества Господа: Он обладает не только единосущным нам телом, но и душой, которая разумна и единосущна всем прочим человеческим душам. Способ соединения двух естеств Христа св. Евстафий часто обозначает довольно подозрительным с точки зрения последующей терминологии понятием «сочетание» (sun)afeia), которое могла иметь смысл не только соединения, но и соприкосно -вения. Это иногда создавало впечатление, будто Антиохийский предстоятель учил лишь о «нравственном соединении» безлич-ностного Логоса с человеком69. Однако данное впечатление неверно и искажает объективное видение христологии свт. Евстафия. Ибо, во-первых, «учение Антиохийского епископа об образе соединения естеств во Христе не может быть признано последовательным до конца»70 вследствие зыбкости его терминологии. А во-вторых, несмотря на такую зыбкость и текучесть терминологии, а также на его высказывания о том, что Слово обитало в Человеке или что Оно об -лачилось в этого Человека, свт. Евстафий ясно осознавал тот факт, что Субъектом вочеловечивания является Бог Слово, а поэтому ему был чужд христологический дуализм, предполагающий наличие двух субъектов во Христе71.
Хотелось бы обратить особое внимание на подчеркивание значения души в человеческой природе Христа у свт. Евстафия. Оно, несомненно, связано с антиарианской полемикой святителя, который первый ясно осознал опасность отрицания человеческой души Господа, характерного для арианской христологии72. В лжеучении самого Ария этот момент, в качестве ясно выраженной формулировки, отсутствует73, но если попытаться выстроить логику рассуждений ересиарха, то подобный ход мысли совсем не представляется абсурдным. Ведь Слово, согласно Арию, было Тварью, разумной и способной изменяться, и в качестве таковой Оно осуществляло Домостроительство спасения. Воплотившись, Слово заняло место человеческой души, поскольку два разумных субъекта немыслимы во Христе74. Эту логику, вероятно, почувствовал Евсевий Кесарийский, который, полемизируя с Маркеллом Анкирским, высказал положение, что Слово приводило в движение воспринятую Им плоть наподобие [обычной] человеческой души (t9hn s)arka kin^wn juc^hq d)ikhn)75. Еще более четко этот тезис арианской христологии высказал Евдоксий: он заявлял, что Сын не вочеловечился, а только воплотился. Ибо, согласно Евдоксию, Сын не воспринял человеческой души, но стал только плотью, так что Бог был явлен нам лю -дям, как через занавес. Поэтому в [Богочеловеке] нет двух природ (o_u d)uo f)useiq), ибо [Слово] не было совершенным человеком, но оно было Богом (конечно, низшим Богом) во плоти, заменив здесь душу (_ant9i juc^hq Ye9oq _en sark)i), то есть было в целом единой (одной) природой по сочетанию (m)ia t9o $olon kat9a s)unyesin)76. Та- ким образом, арианская христология во многом предваряла ересь Аполлинария Лаодикийского и последующее монофизитство. По крайней мере, Аполлинарий был единодушен с Евсевием Кесарийским в своей полемике против «диопросопической христологии», которая, как он считал, была представлена не только деятелями Антиохийской школы, но и Маркеллом Анкирским, являвшимся, по его мнению, последователем Павла Самосатского77. Поэтому свт. Евстафий, стремясь опровергнуть ее, постоянно подчеркивал значимость человеческой души Христа в деле Домостроительства спасения78. Почти не вызывает сомнений, что хотя позднейший соте-риологический принцип «что не воспринято, то и не исцелено» и не высказан Антиохийским предстоятелем, но является внутренним движителем его антиарианской полемики.
Третьим серьёзным богословом, защищающим Никейский символ веры, являлся Маркелл Анкирский, которого иногда считают крайним антиподом Ария79. Он прожил долгую (почти столетнюю), насыщенную событиями и бурную жизнь80, вызвав самые противоречивые оценки как у современников, так и у ученых нового времени. Несомненно, что Маркелл один из первых почувствовал опасность арианства81 и сразу же поддержал свт. Александра Александрийского, заняв на Никейском соборе также четко выраженную антиарианскую позицию82. Когда началась «антиникейская реакция», Маркелл, не раздумывая, бросился в бой, защищая Ни-кейский символ веры83. И, естественно, на Константинопольском соборе 336 г. (некоторые историки датируют его 335 г.) он был осужден как «савеллианин» и отправлен в ссылку, разделив судьбу свт. Афанасия84. Последний, говоря о Маркелле, пишет: «Всем известно, как обвиняемые им прежде в нечестии Евсевиевы сообщники сами обвинили его и довели старца до изгнания. Он, прибыв в Рим, оправдался, и по требованию их дал письменное исповедание веры, которое принял и собор Сардикский»85. Действительно, в Риме Маркелл был принят папой Юлием также благосклонно, как и св. Афанасий86: они были несомненными союзниками в борьбе за Православие. Маркелл стал главным оппонентом Евсевия Кесарийского, написавшего против него специальное произведение; позднее он еще несколько раз был сослан, но репутация Анкирского епископа, как стойкого защитника Никейской ортодоксии, была подмочена его учеником Фотином, развившим идеи учителя до явного мо-нархианства87. Вследствие подобного факта свт. Афанасий даже на некоторое время прервал отношения с Маркеллом, хотя позднее восстановил их. Вероятно, именно по причине связи Анкирского епископа с Фотином свт. Василий Великий в своём послании к свт. Афанасию передает мнение некоторых западных христиан и свое собственное о Маркелле: его ересь является «несносной, зловредной и чуждой для здравой веры», ибо он «обнаружил в себе нечестие, противоположное Ариеву»88. Более осторожно суждение свт. Епифания (который обычно бывает резок в своих оценках): он констатирует, что Маркелл «произвел некоторое разделение в
Церкви в то время», но указывает особо раздражение ариан на Анкирского епископа: «Некоторые порицали его за то, будто он пристал к заблуждению савеллиан. Другие же, напротив, защищали его, говоря, что это несправедливо, но что он жил безукоризненно и утверждали, что он правильно мыслит». Сам свт. Епифаний колебался и не мог высказать решительного суждения о богословии Маркелла, но он сообщает одну характерную деталь: «Некогда я сам спрашивал блаженного папу Афанасия о том, какого он мнения об этом Маркелле. Он и не защищал его, и не отнесся к нему враждебно; но только, улыбнувшись, тайно высказал, что он не далеко ушел в заблуждение, и считал его оправданным »89 . Такой вердикт великого святителя, лучше всех знавшего Маркелла, заставляет несколько насторожиться и побуждает не спешить с однозначными оценками воззрений Анкирского предстоятел я90 .
Однако объективная оценка этих воззрений затрудняется вследствие плохой сохранности сочинений Маркелла91. Подлинным в прямом смысле слова можно признать лишь «Исповедание веры» Маркелла в послании к папе Юлию, цитируемое свт. Епифанием, а главное произведение Анкирского епископа, написанное против ариан (в первую очередь — против Астерия Софиста), сохранилось лишь в выдержках, которые приводят его оппоненты. А подобные вырванные из контекста фрагменты, как известно, далеко не всегда отражают истинное содержание мыслей в цитируемом источнике. Маркеллу еще приписывается сочинение «О святой Церкви», которое в рукописях значится под именем священномученика Анфима Никомидийского, а также ряд творений, надписываемых именем свт. Афанасия Великого («О Воплощении и против ариан» и др.)92, но насколько эти атрибуции соответствуют истине, сказать трудно, ибо аргументация в пользу их очень гипотетическая93. Если исходить из указанных фрагментов, то Маркелл мыслил Бога как единую сущность или ипостась, отождествляя оба эти термина и понимая определение Бога как единосущного в смысле тождественно-сущего (tauto)usioq). Слово (Логос) существует в Боге потенциально (dun)amei) всегда, а в действительности (_energe)ia) — только когда проявляется вовне. Такой выход вовне, или Откровение Его, осуществляется поэтапно: при творении мира или «первом Домостроительстве»; затем — при Воплощении, когда Слово становится Сыном, или «втором Домостроительстве»; и наконец, при «третьем Домостроительстве», или «Домостроительстве Духа», завершающем второе Домостроительство спасения людей. Когда это Домостроительство достигнет своего конца, то Царство Сына также закончится: Бог, как Монада (Единица), «расширившаяся» сначала в «Двоицу», а затем в «Троицу», вновь «стягивается» в Саму Себя. Данное учение, прослеживающееся во фрагментах, имеет явный монархи-анский оттенок и обвинения Маркелла в савеллианстве со стороны Евсевия Кесарийского и других арианствующих представляются обоснованными. Собственно христологии здесь почти не уделяется место, ибо, по мнению В. Герике94, она очень противоречива (носит то модалистический, то докетический характер), поскольку для Маркелла было чуждо «чувство истории» и то воззрение, что именно в истории совершается Домостроительство спасения.
Однако, если обратиться к посланию Маркелла к папе Юлию, содержащему исповедание веры Анкирского епископа95, то картина предстает совсем иная. Опровергая арианские тезисы, что Господь наш Иисус Христос не есть истинное и собственное Слово Вседержителя, а является иным Словом и Премудростью, Маркелл говорит: «Следуя Божественным Писаниям, верую, что [существует] один Бог и Его Единородный Сын — Слово, всегда соприсущее (+o _ae9i sunup)arcwn) Отцу и никогда не имеющее начало бытия, истинно от Бога сущее, всегда царствующее с Богом и Отцом, «и Царству Его — как свидетельствует апостол — не будет конца» (Лк 1:33). Он — Сын, Он — Сила, Он — Премудрость, Он — собственное и истинное Слово Божие, Господь наш Иисус Христос — нераздельная Сила Божия, и через Него произошло всё приведенное в бытие (t9a p)anta t9a gin)omena)». Далее, сославшись на несколько евангельских мест, Маркелл говорит, что Господь наш Иисус Христос в последние дни, снизойдя (kately9wn) ради нашего спасения и родившись от Девы Марии, воспринял Человека (t9on @anyrwpon @elabe)». — Это исповедание веры Маркелла практически не вызывает никаких сомнений с точки зрения Православия и данное впечатление усиливается еще и тем, что он цитирует, в слегка измененном виде, Никейский символ веры. Кроме того, Р. Хансон приводит несколько мест из псевдоафанасиевых сочинений («Изложение веры», «Слово пространнейшее о вере»), которые также никак не гармонируют с учением, представленным во фрагментах96. Если не считать данное учение полностью фальсифицированным оппонентами Маркелла (а подобное предположение вряд ли возможно), то можно придти к одному выводу: Анкирский предстоятель в пылу полемики с арианами чрезмерно подчеркнул единство Лиц Святой Троицы и выступил за пределы Православия, склонившись к монар-хианству. Но затем он, осознав это, откорректировал свои богословские положения, которые уже вполне вписывались в допустимые рамки Правомыслия. Поэтому и понятна отмеченная выше реакция св. Афанасия на вопрос св. Епифания. Определять Маркелла как законченного еретика, что пытались сделать Евсевий Кесарийский и другие противники Анкирского епископа, вряд ли представляется корректным. И, наверное, можно согласиться с мнением нашего русского исследователя, который пишет: «В то время, при недостаточной определенности собственно православных воззрений и при необработанности богословской терминологии, очень легко было и совершенно невинного человека запутать в какую-нибудь ересь и на основании неправильного употребления выражений делать самые страшные заключения о писателе»97. Правда, о том, на- сколько был «невиновен» Маркелл, возникают сомнения; и вообще, его пример показывает, что известная максима «блюдите, как опасно ходите» особенно применима к сфере православного богословия. Ибо небрежность в богомыслии, как небрежность и неряшливость в духовной жизни, чревата серьёзными последствиями. Кроме того, пример Маркелла научает еще и тому, что ревностное изобличение ереси, при отсутствии должного внутреннего бдения, как духовнонравственного, так и интеллектуального, может привести ко впадению в противоположную крайность.
Новые догматические течения:
«омии», «аномеи» и «омиусиане»
Конечно, догматическая борьба, развернувшаяся после Ни-кейского собора, была неоднозначной и велась на нескольких уровнях, часто напоминая, по выражению Сократа, «ночное сражение»98, где соратника можно было принять за врага, и наоборот. И тем не менее, основные тенденции данной борьбы намечались довольно ясно. Политические события оказывали большое влияние на эту борьбу — данное обстоятельство, характеризующее, как известно, всю историю Церкви эпохи Вселенских соборов, проявлялось весьма отчетливо и в IV в. Смерть Константина Великого (337 г.), разделение империи между тремя его сыновьями, а затем воссоединение державы под властью Константия (Констанция — 353 г.), не только симпатизирующего арианствующим, но и всячески поддерживающего их мощными рычагами государственной власти, привело, казалось бы, к торжеству ереси в лице омиев. Но внешнее торжество обернулось проявлением внутренней слабости. Два Антиохийских собора (341 и 344 гг.), Сирмийский (357 г.) и некоторые другие соборы пытались найти адекватную «формулу веры», которая бы заменила Никейский символ веры, но все эти попытки оказались безуспешными — данные «формулы» поражали своей расплывчатостью, нечеткостью и как бы «богословской беззубостью». Следует отметить, что на развитие богословской мысли оказала влияние и почти одновременная смерть тех, руками которых был зажжен пожар в Церкви: в 336 г. умирает, буквально накануне своего торжества, то есть приема в церковное общение, Арий99; около 341 или 342 года заканчивает свой, отнюдь не безупречный жизненный путь, Евсевий Никомедийский, ставший за несколько лет до этого Константинопольским предстоятелем100; также в 341 году скончался и Евсевий Кесарийский101. Таким образом, «антиникейская реакция» почти одновременно лишилась всех своих руководителей (Астерий Софист также умер около 341 года) и эта пестрая коалиция начала распадаться. На ее развалинах образовалось два основных догматических течения.
От «омиев», с их расплывчатым тезисом о подобии Сына Отцу, и потому представляющих относительно умеренное крыло среди арианствующих, резко отличалось радикальное крыло ариан — «аномеи» или «неоариане», как их иногда называют в западной историографии. Данное течение оформилось в конце 50-х годов IV века102 и во главе его стояли две личности — Аэтий (Аэций) и Евно-мий. Жизнь первого была достаточно бурной: родившись в Антиохи около 313 г., он был золотых дел мастером и врачом, самостоятельно занимаясь философией и тяготея «к логическим созерцаниям» (pr9oq logik9aq yewr9iaq — выражение Филосторгия)103. Аэтий богословское образование своё получил в кругу арианствующих епископов (Афанасия Аназарбского, Павлина Тирского и др.)104. Как говорит А.Спасский, «неглубокий мыслитель, но тонкий софист, Аэций смотрел на христианское учение, как на обыкновенный философский материал для диалектических упражнений, не связывал с ними никакого религиозного чувства и хотел достигнуть в догматике одной только ясности и определенности… Необыкновенно находчивый и остроумный, всегда имевший в запасе ядовитую насмешку, чтобы обезоружить своего противника, Аэций мог оказаться опасным пропагандистом аномейства. Но Аэций довольствовался тем, что одерживал победы на диспутах даже с такими умственно сильными людьми, как Василий Анкирский или Евстафий Севастийский, задирал каждого встречного, все осмеивал и вовсе не думал вступать в какую-нибудь серьезную борьбу за свои воззрения»105. Позднее, хотя Аэтий «первый сделал опыт диалектического обосно- вания системы Ария»106, не ему, а его ученику Евномию суждено было стать центральной фигурой в аномействе107.
Родом он был из Каппадокии (родился около 330 г.), происходил из бедных слоев земледельцев, стал школьным учителем и ритором. Затем, по сообщению Филосторгия, «Евномий, по слуху о мудрости Аэция, пришел из Каппадокии в Антиохию и обратился к Се -кунду, тот познакомил его с Аэцием, который в то время жил в Александрии. Оба они поселились вместе: один, как наставник, а другой как наставляемый в Божественных Писаниях »108 . Позднее он был рукоположен во диакона, пресвитера и, наконец, епископа города Кизика, причем эту епископскую хиротонию совершил один из самых деятельных руководителей арианской партии — Евдоксий Константинопольский. Судя по всему, у Евномия был от природы сильный дар убеждения людей: когда между ним и Евдоксием воз -никли догматические разногласия, то, как сообщает, опять же, Фи-лосторгий, «быв поставлен в необходимость оправдываться перед константинопольским клиром, Евномий так изумил людей, сперва волновавшихся, что они совершенно изменили свои о нем мысли и даже сделались пламенными свидетелями его благочестия »109 . Умер Евномий в ссылке после второго Вселенского Собора (скорее всего — около 394 г.), а Аэтий значительно раньше (около 370 г.). Оба они были одаренными людьми, но, поставив свой талант не на служение Церкви, а на самоугождение (а потому — и на разрушение Тела Христова), они лишились блаженной участи на небесах, подпав под вечное осуждение.
Пример этих двух ересиархов еще раз показывает, что внутренним психологическим движителем аномейства, как и всякой ереси, являлась гордыня, которая у них приобрела резко выраженный оттенок интеллектуальной спеси. Это отчетливо проявляется в словах Аэтия, которые передает свт. Епифаний: «Я так отлично знаю Бога и так разумею Его, что столько не знаю себя, сколько знаю Бога»110. Что же касается лжеучения аномеев, то оно, по своей сути, является развитием тезисов раннего арианства; новое в нём сводится только к предельному акцентированию слова «нерожденный», как главного и чуть ли не единственного определения Бога, а также к предельной «философической» обработке своих положений и выхолащиванию из христианства всего, связанного с религиозностью и благочестием111. Свт. Епифаний приводит обширные выдержки из сочинения Аэтия («Синтагматион»)112 в форме «глав», где это выхолощенное богословие предстаёт очень ярко и наглядно . Каждая глава его представляет силлогистическое умозаключение, например: «Если понятие нерожден-ность означает сущность, то по справедливости различается от сущности рожденного. Если же нерожденное не означает, то тем более ничего не означает рожденное. Каким же образом ничто будет противополагаться ничему?». Или: «Если Бог пребывает в нерожденной природе, то должно отнять от Него знание (t9o e_id)enai) Самого Себя в рождении и нерожденности. Если допустить распространение Его сущности на нерожденное и рожденное, то Он не ведает собственной сущности, отвлекаемый рождением и нерожденностью». Характерно, что Господь наш Иисус Христос упоминается в самом конце сочинения Аэтия, который, как бы спохватившись, накидывает на свои логические упражнения флёр христианства. Резюмируя свои силлогизмы, он говорит: «Саморожденный Бог, названный единым истинным Богом от послан- ного Им Иисуса Христа, истинно существовавшего (+upost)antoq) прежде веков и истинно рожденной ипостаси (@ontoq _alhy^wq g0ennhthq +upost)asewq), да соблюдет вас невредимыми во Христе Иисусе Спасителе нашем, через Которого всякая слава Отцу ныне и присно и во веки веков». Христос здесь выступает только как тварный Посредник между Богом и миром, будучи абсолютно чуждым по сущности Отцу — единственному Богу: этот Бог есть нерожденный, а Христос — «рожденная ипостась (то есть сущность)».
В таком своём качестве система Аэтия предстоит как система философствующего суемудрия, радикально противоположная Православию. Не изменил принципиально этой системы и Евномий, который «выступает со своей теорией с полным убеждением в ее ис -тинности и, несмотря на негодование со стороны церковных людей, выводит все ее последствия с неподражаемой логической прямотой»113. Он также считает, что Сын по сущности совершенно неподобен Отцу, хотя «Его сущность выделяется из разряда сущностей, сотворенных Им. Он создан не просто по подобию Божию, но по преимущественному подобию (kat) _exa)ireton +omoi)othta)». Характерно также, что Евномий полагал, будто «Сын принял человеческую плоть без души», а Святой Дух есть «продукт первого проявления творческой силы Сына и потому выделяется по природе из остальных творений»114. Таково вкратце лжеучение аномеев, которые довели до логической завершенности все основные интуиции раннего арианства. Примечательно, что в аномействе, тяготеющем к логической завершенности и стройности, обнаруживается глубинное внутреннее противоречие: с одной стороны, оно казалось бы утверждало абсолютную трансцендентность Бога, а, с другой, было в определенной степени человекобожием, о чем свидетельствует приведенное выше горделивое изречение Аэтия о его способности познать Бога115. Это-то человекобожие и являлось тем стержневым моментом, который делал аномейство совершенно несовместимым с Православием, как религией прежде всего Богочеловечества.
Вторым течением, образовавшимся на развалинах антиникей-ской коалиции, было «омиусианство», утверждающее подобие по сущности Лиц Святой Троицы. Его иногда совершенно неправильно обозначают как «полуарианство», а представителей его — как «полуариан»; и следует признать, что автором подобного некорректного обозначения (+hmiare)iwn) является свт. Епифаний Кипрский, который говорит, что «полуариане», хотя и отрекаются от имени Ария, «однако облечены в него и в его нечестивое учение и притворным видом полагают на себя совсем другую личину, подобно тому, как это делается на сцене при драматическом представлении»116. Конечно, свт. Епифаний, будучи самым выдающимся древнецерковным ересиологом, ревностно радел о Правосла-вии117, однако порой ему были свойственны неточности и неверные оценки118. Сам термин «омиусианство» иногда признаётся не совсем удачным119, но обозначаемая им группа церковных деятелей в течение некоторого времени предстаёт перед нами как нечто единое; данная группа находилась в оппозиции как к аномейству, так и к учению Маркелла Анкирского, вульгаризированному Фотином. Поэтому «их система необычно близко подходит к православному учению и отличается скорее по форме, чем по существу»120. Как особое направление богословской мысли, существовала эта группа очень недолго: с самого конца 50-х годов до начала 70-х годов IV в., а затем она распалась, либо слившись с Православием, либо уклонившись в ересь духоборцев. Главными представителями «омиуси-ан» являлись Василий Анкирский и Георгий Лаодикийский; к ним примыкали свт. Мелетий Антиохийский, Евстафий Севастийский и ряд других епископов. Наиболее характерным отражением взглядов их можно считать послание Анкирского собора, созванного по просьбе Георгия Лаодикийского и призванного дать отпор возобладавшим в Антиохии аномиям121. Данное послание, дополняемое «Памятной запиской Василия и Георгия и их приверженцев»122 начинается с изложения «веры во Отца, и Сына, и Святого Духа». Исходным пунктом такой веры является четкое разграничение поня- тий «Творец» и «тварь», причем подчеркивается, что Сын не относится к категории тварей, а есть «Единородный Отца». Характерно, что авторы послания, опираясь на св. апостола Павла (1 Кор 1:17, 2:1), восстают против всякой «силлогистической мудрости», противопоставляя ей «объюродившую мудрость», обладающую «чуждой силлогизмов силой» (t^hq _as)ullog)istou dun)amewq), или «веру, ведущую ко спасению тех, кто приемлет проповедь (t9o k)hrugma)». Именно такая «объюродившая мудрость» и способна одна только слегка приоткрыть завесу над тайной Святой Троицы. Ибо благодаря ей мы знаем, что Бог Отец является Премудрым по сущности, а Сын есть Премудрость от сущности Премудрого, вследствие чего Он будет подобен по сущности Отцу (+omo)ia @estai kat)o_us)ian t^ou sof^ou Patr)oq). Примечательна христология послания: Сын, «быв в подобии человеков (ср.: Рим 8:1), хотя и Человек был, но человек не по всему; Он являлся Человеком по восприятию плоти, поскольку «Слово стало плотью» (Ин 1:14), однако же не был человеком, поскольку Его рождение неподобно рождению прочих людей, то есть Он родился не от семени и совокупления. Следовательно, Он, Предвечный Сын, есть Бог, так как Он — Сын Божий, но вместе с тем Он есть Человек, как Сын Человеческий. Он не тождественен (o_u ta_ut9on) родившему Его Богу Отцу, равно как не тождественен Он человеку, поскольку родился без истечения и страсти, без семени и вожделения. Стало быть, Господь был «в подобии плоти греховной» (Рим 8:3), поскольку «терпел во плоти голод, жажду и сон — каковыми страстями возбуждаются ко греху тела. Однако Он, перенося вышеназванные страсти, не побуждался ими ко греху». Таким образом, в послании (основным автором которого был, скорее всего, Василий Анкирский) четко разграничиваются понятия «подобие» и «тождество» и на основе такого разграничения утверждается двойное подобие по сущности Сына — Его сущностное подобие Отцу по Божеству и такое же подобие нам по человечеству. В этом вероучительном документе содержится и много других интересных моментов, важных с точки зрения истории богосло-вия123, но главное в нём — принципиальное противостояние псевдо-диалектическому суемудрию аномеев. Такое противостояние целиком зиждется на церковной вере в непререкаемую действенность спасения людей, осуществленного и осуществляемого воплотившимся Богом Словом. Эта же существенная черта «омиусианства» прослеживается и в других памятниках данного богословского движения (например, в «Беседе» св. Мелетия Антиохийского). Поэтому можно сказать, что «омиусианство» отражает «не совсем удавшуюся богословско-теоретическую попытку выразить свое истинно церковное веросознание в наиболее соответствующих терминах»124. Не случайно свт. Афанасий высказывается об «омиусианах» следующим образом: «С теми, которые принимают все прочее из написанного в Никеи, сомневаются же только в речении «единосущность», надобно обходиться не как с врагами, и мы не восстаем против них, как против ариан и противоборствующих отцам, но рассуждаем как братья с братьями, имеющими ту же с нами мысль, и только сомне -вающимися об именовании. Ибо исповедующие, что Сын от сущности Отчей и не от иной ипостаси, что Он не тварь и не произведение, но преискреннее по естеству рождение, и вечно соприсущ Отцу как Слово и Премудрость, недалеки от того, чтобы принять это речение: единосущный. Таков Василий Анкирский, писавший о вере»125.
Список литературы Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского Собора (325–381 гг.)
- Афанасий Великий, свт. Творения. Т. II. М., 1994.
- Афанасий Великий, свт. Творения. Т. III. М., 1994.
- Бер И., свящ. Становление христианского богословия: Путь к Никее. Тверь, 2006.
- Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских Соборов. История богословской мысли. М., 2007. 5.
- Болотов В.В. Собрание церковноисторических трудов. Т. I. Учение Оригена о Св. Троице. М., 1999.
- Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника. СПб., 2006.
- Бриллиантов А.И. К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора. Происхождение монофизитства. СПб., 2006.
- Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 2007.
- Василий Великий, свт. Письма. М., 2007.
- Верховский С.С. Бог и человек. Учение о Боге и Богопознании в свете Православия. М., 2004.
- Виноградов В.П., протопр. О литературных памятниках полуарианства//Богословский вестник, 1911, 9. С. 727-761.
- Владимир (Благоразумов), иером. Св. Афанасий Александрийский.Его жизнь, ученолитературная и полемикодогматическая деятельность. Кишинев, 1895.
- Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Патриарх Фотий. Сокращение церковной истории Филосторгия. Рязань, 2004.
- Гидулянов П.В. Восточные патриархи в период четырех первых Вселенских Соборов. Ярославль, 1908.
- Дьяконов А.П. Иоанн Ефесский и его церковноисторические труды. Типы высшей богословской школы в древней Церкви в III-IV вв. СПб., 2006.
- Дюшен Л. История древней Церкви. Т. II. М., 1914.
- Епифаний Кипрский, свт. Творения. Ч. IV. М., 1880.
- Епифаний Кипрский, свт. Творения. Ч. V. М., 1882.
- ИванцовПлатонов А.М., прот. Ереси и расколы первых трех веков христианства. М., 1877.
- Иероним Стридонский, блаж. Творения. Ч. 5. Киев, 1910.
- Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских Соборов. М., 1995.
- Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. II. Кн. 2. М., 1994.
- Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994.
- Кирилл (Лопатин), иером. Учение св. Афанасия Великаго о Св. Троице (сравнительно с учением о том же предмете в три первые века). Казань, 1894.
- Кудрявцев Н.П. Евстафий Антиохийский/Отдельный оттиск из «Богословского вестника». Сергиев Посад, 1910.
- Лебедев А.П. Вселенские Соборы IV и V веков. Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб., 2004.
- Лебедев А.П. Из истории Вселенских Соборов IV и V веков. Полемика А.П. Лебедева с прот. А.М. ИванцовымПлатоновым. СПб., 2004.
- Лебедев Д.А., свящ. Вопрос о происхождении арианства/Отдельный оттиск из «Богословского вестника». Сергиев Посад, 1916.
- Ловягин Е.И. О заслугах святаго Афанасия Великаго для Церкви в борьбе с арианством. СПб., 1850.
- Лоллий (Юрьевский), архиеп. Александрия и Египет. СПб., 2001.
- Мелиоранский Б.М. Из лекций по истории и вероучению древней христианской Церкви (IV-III в.). Вып. 1. СПб., 1910.
- Муретов М.Д. Евсевий Памфил: Возражения на книгу Н. Розанова «Евсевий Памфил епископ Кесари Палестинской». М., 1881/Отдельный оттиск из «Православного обозрения». М., 1881.
- Овсянников Е.М., прот. Арианский спор о познаваемости Бога//Вера и Разум, 1910, 4.
- Орлов А.П. Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Сергиев Посад, 1908.
- Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 1. Св. отцы II-IV вв. Сергиев Посад, 2004.
- Розанов Н.П. Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской. М., 1880.
- Самуилов В.Н. История арианства на латинском Западе (353-430). СПб., 1890.
- Сидоров А.И. Древнецерковная историческая письменность: Основные этапы становления древнецерковной историографии//Альфа и Омега,2007, No 3 (50). С. 377-379.
- Сидоров А.И. Святой Лукиан Антиохийский и его ученики: К предыстории Антиохийской школы//Альфа и Омега, 2007, 1 (48). С. 36-50; 2 (49). С. 38-57.
- Скурат К.Е. Учение о спасении Афанасия Великого. Сергиев Посад, 2006.
- Соколов И.И. Лекции по истории Грековосточной Церкви. Т. I. СПб., 2005.
- Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996.
- Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Т. 1. Сергиев Посад, 1906.
- Спасский А.А. Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский Собор в Никее. Исследования по истории древней Церкви. СПб., 2007.
- Спасский А.А. Обращение императора Константина Великого в христианство. Исследования по истории древней Церкви. СПб., 2007.
- Феодорит Кирский, блаж. Церковная история. М., 1993.
- Флоровский Г., прот. Восточные отцы Церкви. М., 2005.
- Чистосердов П. Св. Петр Александрийский (его жизнь и деятельность). Харьков, 1901.
- Эрмий Созомен Саламинский. Церковная история. СПб., 1851.
- Barbel J. Jesus im Glauben der Kirche. Die Christologie bis zum 5. Jahrhundert. Achaffenburg, 1976.
- Bardy G. Aux origins de l’école d’Alexandrie//Recherches de Science Religieuse, 1937, 27. P. 83-85.
- Barnard L.W. The Antecedents of Arius//Vigiliae Christianae, 1970, 24. P. 172-188.
- Barnes T.D. Athanasius and Constantius. Theology and Politics in the Constantine Empire. Cambridge (Mass.), London, 2001.
- Behr J. The Nicene Faith. Part 1. True God of True God. N. Y., 2004.
- Bienert W.A. Dyonisius von Alexandrien. Zur Frage des Origenismus im dritten Jahrhundert. Berlin, N.Y., 1978.
- Boularand E. Aux sources de la doctrine d’Arius//Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 1967, 68. P. 18-19.
- Boularand E. L’héresie d’Arius et la “foi” de Nicée. Paris, 1972.
- Boularand E. Les débuts d’Arius//Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 1965, 65.
- Epiphanius III. Panarion haer. 65-80. De fide. Hrsg. von K. Holl und J. Dummer. Berlin, 1985
- Geerard M. Clavis partum graecorum. V. II. Turnhout, 1974.
- Gericke W. Marcell von Ancyra. Der LogosChristologie und Biblizist. Sein Verhältnis zur antiochenischen Theologie und zum Neuen Testament. Halle, 1940.
- Ghellinck J., de. Patristique et Moyen Age. Étude d’histoire littéraire et doctrinale. T. III. Bruxelles, Paris, 1948.
- Greer R.A. The Captain of our Salvation. A Study of the Patristic Exegesis of Hebrews. Tübingen, 1973.
- Greg R.C., Groh D.E. The Centrality of Soteriology in Early Arianism//Studia Patristica, 1984, XV. Part 1. P. 305-316.
- Gregg R.C., Groh D.E. Early Arianism -A View of Salvation. Philadelphia, 1981.
- Gwatkin H.M. The Arian Controversy. London, 1914.
- Hanson R.P.C. The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy. 318381. Edinburgh, 1993.
- Hefele Ch.J. Histoire des conciles d’après les documents originaux. T. I. Pt. 2. Paris, 1907.
- Kannengiesser Ch. Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity. Leiden, 2006.
- Kannengiesser Ch. Holy Scripture and Hellenistic Hermeneutics in Alexandrian Christology: The Arian Crisis. Berkeley, 1982.
- Kelly J.N.D. Early Christian Creeds. London, 1960.
- Khaled A. Athanasius. The Coherence of his Thought. London, N.Y., 1998.
- Kopeček Th.A. A History of NeoArianism. Cambridge (Mass.), 1979.
- Liébaert J. Christologie von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451)//Handbuch der Dogmengeschichte. Hrsg. von M. Schmaus und A. Grillmeier. Bd.III, 1. Freiburg, Basel, Wien, 1965.
- Lienhard J.T. Contra Marcellum. Marcellus of Ancyra and the FourthCentury Theology. Washington, 1999.
- Lorenz R. Arius judaizanz? Untersuchungen zur dogmengeschichtliche Einordnung des Arius. Göttingen, 1979.
- Lorenz R. Die Christusseele im arianischen Streit//Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1983, Bd. 94.
- Luibheid C. Finding Arius//The Irish Theological Quarterly, 1978, 45.
- Marcellus von Ankyra. Die Fragmente. der Brief an Julius von Rom. Herausgeben, eigeleite und ubersetzt von M.Vinzent. Leiden, N.Y., 1997. S. XIII-XXV.
- Quasten J. Patrology. V.III. Utrecht, Antwerp, 1975. P. 198-200.
- Radford L.R. Three Teachers of Alexandria: Theognostus, Pierius and Peter. A Study in the Early History of Origenism. Cambridge, 1908.
- Ricken F. Zur Rezeption platonische Ontologie bei Eusebios von Kaisareia, Areios und Athanasios//Theologie und Philosophie, 1978, 53. S. 337-343.
- Roldanus J. Le Christ et l’homme dans la théologie d’Athanase d’Alexandrie. Étude de la conjunction de sa conception de l’homme avec sa christologie. Leiden, 1977. P. 356
- Sellers R.V. Eustathius of Antioch and his Place in the Early History of Christian Doctrine. Cambridge, 1928.
- Sellers R.V. Two Ancient Christologies. A Study in the Christological Thought of Schools of Alexandria and Antioch in the Early History of Christian Doctrine. London, 1940.
- Simonetti M. La crisi ariano nel IV secolo. Roma, 1975.
- Spoerl K.M. Apollinarian Christology and the AntiMarcellian Tradition//Journal of Theological Studies, 1994, 45. P. 545-568.
- The Panarion of Epiphanius of Salamis. Book I. Transl. by F. Williams. Leiden, 1987.
- Torrance Th.E. Divine Meaning. Studies in Patristic Hermeneutics. Edinburgh, 1995.
- Urbina I O., de. Nicée et Consantinople//Histoire des conciles oecuméniques. T. I. Paris, 1962.
- Vivian T. St. Peter of Alexandria. Bishop and Martyr. Philadelphia, 1988.
- Wiles M. Archetypal Heresy. Arianism through the Centuries. Oxford, 1996.
- Williams R. Arius. Heresy and Tradition. London, 2001.