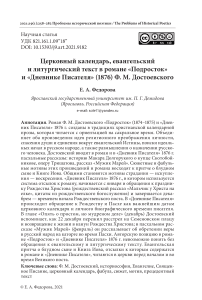Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе "Подросток" и "Дневнике писателя" (1876) Ф. М. Достоевского
Автор: Федорова Елена Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» (1874-1875) и «Дневник Писателя» 1876 г. созданы в традициях христианской календарной прозы, которая читается с ориентацией на сакральное время. Объединяет оба произведения идея религиозного преображения личности, спасения души и единения вокруг евангельской Истины, поиски идеальных начал в русском народе, а также размышления о назначении русского человека. Достоевский вводит в роман и в «Дневник Писателя» 1876 г. пасхальные рассказы: историю Макара Долгорукого о купце Скотобойникове, оперу Тришатова, рассказ «Мужик Марей». Сюжетные и фабульные мотивы этих произведений и романа восходят к притче о блудном сыне и Книге Иова. Общими становятся мотивы страдания - искупления - воскресения. «Дневник Писателя» 1876 г., в котором используется система отсылок к роману, начинается с января и обращения к празднику Рождества Христова (рождественский рассказ «Мальчик у Христа на елке», цитаты из рождественского богослужения) и завершается декабрем - временем начала Рождественского поста. В «Дневнике Писателя» происходит обращение к Рождеству и Пасхе как важнейшим датам церковного календаря и личного биографического времени писателя. В главе «Опять о простом, но мудреном деле» (декабрь) Достоевский вспоминает, как 22 декабря пережил расстрел на Семеновском плацу и возвращение к жизни в канун Рождества Христова; в пасхальном рассказе «Мужик Марей» (февраль) он рассказывает об обретении веры в русский народ на каторге во время Пасхи. Авторскую позицию в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» 1876 г. невозможно понять без обращения к евангельскому и литургическому тексту. Евангельская притча о блудном сыне и Книга Иова, отсылки к которым содержатся в романе и «Дневнике», читаются в церкви перед началом и во время Великого поста.
Ф. м. достоевский, историософия, евангелие, священное писание, церковный календарь, фабула, сюжет, мотив, прецедентный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/147227235
IDR: 147227235 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9182
Текст научной статьи Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе "Подросток" и "Дневнике писателя" (1876) Ф. М. Достоевского
Р оман «Подросток» — одно из самых трудных для понимания произведений, особенно для зарубежных читателей.
В 1996 г. Оге Хансен-Лёве, негативно оценивая этот роман Достоевского, перешел от утверждения о сложной системе амбивалентных авторских оценок и суждений в нем к выводу, что Россия — это «культура, состоящая из всех других (европейских) культур» [Хансен-Лёве: 254]. Отказ серьезно воспринимать идеи романа немецкий критик аргументировал якобы пародийным дискурсом Версилова и Макара Долгорукого, включающим христианский текст [Хансен-Лёве: 250–253]. Среди претекстов Хансен-Лёве обнаружил только исповедь Руссо, а в опере Тришатова увидел мелодраматический эффект [Хансен-Лёве: 236, 244]. Спустя почти 20 лет — появилась работа Джонатана Пейна, где вновь был отмечен ценностный релятивизм автора романа «Подросток» [Pain: 65]. Английский исследователь также утверждает, что в «притче» Макара Долгорукого о купце Скотобойникове нет ни наказания, ни покаяния, она отражает только всеобщий беспорядок, а сама жанровая форма произведения неудачна, поскольку представляет смесь притчи и анекдота, криминального романа и мелодрамы, бульварной газеты и серьезного журнала [Pain: 66–69].
Можно согласиться с английским исследователем в том, что Достоевский обращается к «читателям с разными вкусами» [Pain: 70]. Ценным представляется замечание о «создании интеллектуального комментария» рассказчика Аркадия Долгорукого к традиционной литературной форме [Pain: 69]. Действительно, роман «Подросток» — это многоуровневый текст, в котором поднимается сложный комплекс социальнопсихологических проблем, есть авантюрная интрига, показаны «любовь-ненависть» Версилова к Ахмаковой и некоторое соперничество отца и сына.
Однако авторская идея не тождественна формуле рассказчика «быть Ротшильдом». В рукописной редакции от 12 (24) августа 1874 г. Достоевский замечает: «КОПИТЬ — ЛИШЬ ПОЭТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ»1. Кроме того, в романе показана эволюция рассказчика и его идеи. В. Н. Захаров, раскрывая сложность «чувства-идеи» Аркадия Долгорукого, которая изначально близка цели пушкинского Скупого рыцаря («уединенное и спокойное сознание силы»), показывает ее трансформацию («миллион», «скорлупа», «угол», «игра», «женщины», «письмо», «документ», «университет») и превращение в «идею самосто-янья человека» [Захаров, 2013: 392]. Аркадий Долгорукий в определенный момент становится резонером автора:
«Кто не мыслитъ о настоящей минутѣ Россiи, тотъ не гражданинъ! Я смотрю на Россiю, может быть, съ странной точки: мы пережили татарское нашествiе, потомъ двухвѣковое рабство, и ужь, конечно, потому, что то и другое намъ пришлось по вкусу. Теперь дана свобода и надо свободу перенести: съумѣемъ ли? Также ли по вкусу намъ свобода окажется? — вотъ вопросъ»2.
Эта мысль в рукописных редакциях сначала принадлежит автору, затем — Версилову ( Д30 ; 16: 37, 285). Н. А. Тарасова обнаружила в рукописи «Дневника Писателя», создававшегося параллельно с романом, указание Достоевского на цель произведения: «Россия осмелится сказать свое собственное слово» [Тарасова, 2011: 161].
Русскому читателю идея самостояния личности в мире, охваченном страстями, знакома по учению Нила Сорского, имя которого упоминается в рукописных редакциях романа от 14 (26) сентября 1874 г.: «“А кто не хочет трудиться, пусть тот и не ест”, — сказано прежде (Нил Сорский)» ( Д30 ; 16: 143). Эти слова взяты писателем из Предания Нила Сорского и связаны с «умной молитвой», практикой «духовного делания»: «И Павел апостол повелевает в безмолвии делающим свой хлеб ясти и запретителнейши глаголет: Аще кто не хочет де-лати, да не ясть»3. Нил Сорский утверждал «нестяжание», т. е.
«отложение земных попечений», и «духовное делание» как сопротивление страстям, овладевающим душой человека (учение о борьбе с «прилогом», т. е. появлением греховной мысли, с помощью Иисусовой молитвы). Формой нестяжания является странничество, которое выбирает герой романа Макар Иванович Долгорукий. Знакомство Аркадия с Макаром Ивановичем начинается с того, что он слышит Иисусову молитву4. «Хлеб», как и у Нила Сорского, в романе и «Дневнике Писателя» понимается в нескольких значениях, но главное из них — это духовная пища (в евангельском значении «не хлебом единым жив человек»). На этих же страницах Достоевский цитирует евангельскую притчу о блудном сыне и Книгу Иова, а также слова св. Кирилла Белозерского: «Чем ближе подходим мы к Богу с любовью, тем грешней себя чувствуем» ( Д30 ; 16: 143).
Еще одним прототипом образа Макара Долгорукого является святитель Тихон Задонский [Гаричева, 2006]. Он и Сергий Радонежский упоминаются в черновиках романа ( Д30 ; 16: 330). Текст «Жития Святителя Тихона Задонского» в редакции Крестного календаря 1867 г. как один из источников февральского номера «Дневника Писателя» за 1876 г. был обнаружен Н. А. Тарасовой [Тарасова, 2011: 303]. В этой книге «Дневника Писателя» Достоевский соотносит исторические народные идеалы, которые получили отражение в житиях святых (Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, Тихон Задонский), с теми, которые существуют в русской словесности. В типах Гончарова (Обломов) и Тургенева (Лаврецкий) писатель видит то «вековечное и прекрасное», что появилось от соприкосновения с народом: «простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие» ( Д30 ; 22: 44).
Представляется, что нельзя не учитывать авторскую позицию [Живолупова: 13] и этнологические аспекты проблематики произведений Достоевского [Захаров, 2010], [Федорова, 2015], а роман «Подросток» и «Дневник Писателя» необходимо рассматривать в единстве. Первая статья «Дневника Писателя» 1876 г. посвящена «Подростку» и размышлению о главном герое романа и «случайном семействе» (Д30; 22: 8). В мартовском номере «Дневника» Достоевский отсылает к роману «Подросток» как пророчеству о возможной в Европе церкви без Бога (Д30; 22: 97–98). Объединяют «Дневник Писателя» и «Подросток» проблема судьбы русского человека и ориентация на христианскую календарную литературу, в которой большое значение имеет религиозный дискурс. Н. А. Тарасова обратила внимание на черновые записи к рассказу «Столетняя», помещенному в мартовский выпуск «Дневника»: в них Достоевский «ясно определяет суть своего творческого метода, сочетающего реализм “проклятых вопросов” с идеей “утешения”. Приведенное замечание, кроме того, раскрывает и христианскую основу творческого метода писателя: идея “утешения” восходит к библейскому тексту. В Библии “утешение” понимается как спасительная истина, содержащаяся в заповедях, и вера, объединяющая людей и позволяющая преодолеть земные скорби» [Тарасова, 2011: 270]. Н. А. Тарасова выделила разные знаки, которыми Достоевский отмечал в рукописи судебный и политический дискурс: записи об адвокатах (судебный дискурс), о политике (политический дискурс). Знак солнца у писателя обозначает Библию и христианский идеал [Тарасова, 2011: 241, 245, 249].
Очевидно, что авторскую идею романа «Подросток» может помочь раскрыть «Дневник Писателя» 1876 г., в котором годовой круг начинается с Рождества Христова и упоминания о завершенном романе. В первой же главе дается характеристика Аркадия Долгорукого и объясняется авторский замысел:
«Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность” свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любуется им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога» ( Д30 ; 22: 8).
Таким образом, писатель показывает возможность возрождения героя его верой в Бога. Детские воспоминания о первом причащении и материнской молитве, а также встреча с Макаром Долгоруким становятся спасительными для Аркадия.
Идея Версилова в мартовском номере журнала — «о будущем человечестве, когда уже исчезнет в нем всякая идея о Боге, что, по его понятиям, несомненно случится на всей земле» — представляется как авторская и пророческая:
«Позволю себе сделать выписку из одного моего недавнего романа — “Подросток”. Об этой “Церкви атеистов” я узнал лишь на днях, гораздо позже того, как я окончил и напечатал роман мой. У меня тоже об атеизме — но это лишь мечта…» ( Д30 ; 22: 97).
Работу над романом «Подросток» Достоевский начинает в феврале 1874 г. (начало Великого поста) и завершает в ноябре 1875 г. (начало Рождественского поста) ( Д30 ; 16: 140–143). Переговоры о его публикации писатель предпринимает в апреле 1874 г., сразу после Светлого Христова Воскресения, которое в тот год пришлось на 31 марта по старому стилю.
Н. А. Тарасова обратила внимание, что перед изданием романа «Подросток» в 1876 г. Достоевский его перечитывал, что получило отражение в «Дневнике Писателя» тематически: это размышления о «высшем культурном типе», русском интеллигенте с его «всемирным болением за всех», о мессианской роли России в мировой истории, о необходимости соединения науки и православия. Кроме того, по замечанию исследовательницы, на соотнесение заметок из записной тетради и романа указывает хронология событий: отдельное издание романа вышло в январе 1876 г., 10 марта Достоевский сделал дарственную надпись брату Андрею на экземпляре этого издания, а 12–13 марта в записной тетради Достоевского появились записи о назначении русского человека (см.: [Тарасова, 2011: 250]).
В. Н. Захаров раскрыл ключевое значение церковного календаря в «Подростке»: «Записки составлены по прошествии нескольких месяцев во время Великого поста» и «в буквальном смысле являются великопостным покаянным сочинением героя, осознанием им своего греха» [Захаров, 2013: 395]. О духовной эволюции главного героя, его становлении как основе повествования писали многие исследователи (см.: [Степанян: 384–388], [Гаричева, 2002: 364], [Thompson], [Pyman] и др.).
Исследователи обращают внимание на обилие в романе «Подросток» ветхозаветных цитат. И. Д. Якубович раскрывает сакральное и литературное, общекультурное употребление в романе текста Ветхого Завета [Якубович: 56]. Р. Х. Якубова указывает на синтез в романе ветхозаветного, евангельского и литературного текста [Якубова: 182], проводит параллель между ветхозаветной притчей о Давиде, Урии и Вирсавии и романом: Версилов соблазняет жену своего крепостного Макара Долгорукого и наказан за это, подобно Давиду, смертью своего ребенка [Якубова: 175–176].
Рассказ Макара Долгорукого о купце Скотобойникове, история молодого князя Сокольского и Васина также включают элементы этой фабулы: соперничество героев из-за женщины — желание героя устранить соперника — наказание в виде смерти сына. История царя Давида должна обратить внимание читателя на его главное произведение — Псалтырь. 50-й покаянный псалом царя Давида читается в Церкви во время утрени сразу после чтения Евангелия5. Во дни Великого поста на утрени звучит покаянный тропарь: «Яко Давид вопию Ти». Кроме того, элементы этой ветхозаветной фабулы соотносятся с евангельским сюжетом притчи о блудном сыне, что отмечалось многими исследователями, а В. И. Габдуллина включила эту особенность в авторскую стратегию текста: «Рецептивный уровень авторского дискурса в произведениях Достоевского организует коммуникативную стратегию текста по отношению к читателю как реципиенту высказывания, вовлекаемому, подобно адресату притчи, в сферу диалогизи-рованного авторского слова. При этом авторская дискурсивная стратегия не совпадает полностью с нарративной стратегией притчи, которая предполагает наличие поучающего и поучаемого. Для стиля Достоевского-художника не характерна моралистическая прямолинейность» [Габдуллина: 72–73]. Неделя о блудном сыне предшествует Великому посту, в церкви в эту неделю и происходит чтение данной притчи.
Слова из притчи о блудном сыне в романе «Подросток» Аркадий цитирует, когда узнает о том, что Версилов отказался от выигранного им наследства: «Ибо сей человѣкъ “был мертвъ и ожилъ, пропадалъ и нашелся!”» ( Достоевский ; 11: 187). После поминок Макара Ивановича Софья Андреевна просит Аркадия прочитать Евангелие от Луки. Именно в нем содержится притча о блудном сыне (Лк. 15:11–32) ( Достоевский ; 11: 504).
Макар Долгорукий в начале общения с Аркадием рассказывает ему о Житии Марии Египетской — эта книга читается на пятой неделе Великого поста в среду вечером (Мариино стояние). В последней беседе с семьей Аркадия Макар Иванович обращается к Книге Иова (Достоевский; 11: 409). Когда праведник Иов лишается всего, что у него было, он восклицает: «…наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21). Макар Долгорукий вспоминает Иова Многострадального, который хотя и утешался «новыми детушками», а старых забыть не мог (Достоевский; 11: 409). Для Макара Ивановича Софья Андреевна, Версилов, Аркадий — это его дети, он печалится о судьбе погибшего ребенка Версилова и Софьи Андреевны. Исповедь в его речи сменяется проповедью [Гаричева, 2008: 162–166].
Книга Иова читается на богослужении на Страстной Седмице, с понедельника по пятницу. На вечерне в Великие понедельник, вторник, среду читаются первая и вторая главы (те же самые паремии, которые читаются в день его памяти). Так выстраивается связь страданий Иова со страданиями Христовыми, о чем поется в стихире из службы Иову Многострадальному: «страданьми своими страсти Христовы предъ-изобразившаго, и ныне в вышних селениих со Христом цар-ствующаго и молящагося о душах наших»7.
В пасхальном рассказе о купце Скотобойникове Макара Долгорукого первая часть истории купца соотносится с евангельской притчей о блудном сыне, вторая часть (после смерти мальчика и покаяния) — с судьбой ветхозаветного Иова Многострадального. Объединяет обе фабулы мотив страдания, искупления и воскресения. Архимандрит и купец Максим Иванович обмениваются фразами из Книги Иова. Скотобой-ников при этом использует парафразу: «Какъ вѣтеръ, говоритъ, развѣялась слава моя». Это слова Иова, которые он обращает к своим друзьям: «Как ветер, развеялось величие мое» (Иов 30: 15). На что архимандрит отвечает ему словами друга Иова из Книги: «Слова отчаяннаго летятъ на вѣтеръ» ( Достоевский ; 11: 39). Вилдад, друг Иова, останавливает его жалобы: «Долго ли ты будешь говорить так? — слова уст твоих бурный ветер!» (Иов 8:2). В рукописных редакциях романа эти парафразы и цитаты из Книги Иова принадлежат Макару Долгорукому ( Д30 ; 16: 140–141).
После смерти своего ребенка и раздачи имущества купец Скотобойников говорит: «Былъ я твердъ и жестокъ, и тягости налагалъ, но мню, что за скорби и странствiя предстоящiя не оставитъ безъ возданiя Господь, ибо оставить все сiе есть не малый крестъ и не малая скорбь» ( Достоевский ; 11: 398). В Библии понятия «малая скорбь» и «великая скорбь» соотносятся с частной жизнью человека и общим для всех Страшным судом. В Книге Иова праведник говорит утешающим его друзьям, что не утоляется его скорбь (Иов 16:6). В Евангелии от Матфея дается пророчество о Втором Пришествии и «великой скорби»: «…ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф. 24:21). В дни Великого поста в храме поется покаянный тропарь «Трепещу Страшного дне судного». Тема Страшного суда объединяет Макара Ивановича и Версилова.
Второй пасхальный сюжет предлагается в романе Тришатовым, который пересказывает Аркадию сочиненную им оперу. Это произведение создано Достоевским под впечатлением не только драмы И.-В. Гете «Фауст», оперы Ш. Гуно «Маргарита» (один из вариантов названия) [Гаричева, Прий-мак: 81–83], но, вероятно, и под воздействием «Реквиема» Дж. Верди, написанного в 1874 г. и исполненного в Петербурге в 1875 г. В произведении Верди, посвященном памяти Россини и Мандзони и написанном для хора и четырех солистов, тема Страшного Суда Dies irae звучит лейтмотивом — в начале и в конце секвенции, что противоречит канону. Заключительный раздел Libera me исполняется сопрано — это молитва об избавлении души от вечной смерти в день Страшного Суда. В драме Гете Гретхен во время исполнения Dies irae слышит голос Злого Духа, который говорит ей о гибели ее души, и падает в обморок. В опере Гуно Маргарита верит в милосердие Божие и творит молитву, которая исполняется сопрано как «ангельская песнь». В драме Гете и в опере Гуно Маргарита находится перед храмом, не решаясь в него войти. Последняя сцена с Маргаритой в тюрьме сопровождается у Гуно пасхальным гимном «Christ est ressuscite!», что означает спасение души героини.
У Достоевского события в опере происходят в церкви, при этом произведения европейских авторов, опирающихся на протестанскую и католическую традицию, трансформируются в пасхальное произведение, которое обращает читателя к центральной части православной Литургии — Херувимской песне и Великому входу (Достоевский; 11: 436). В тексте Достоевского парадоксальным образом соединяются музыка и слова, звучание органа, традиционное для католической церкви и православное литургическое хоровое пение [Тарасова, 2010]. Молитва Маргариты в ответ на голос дьявола звучит на фоне Трисвятой песни, славящей Бога: «Яко да царя всех подымем ангельскими невидимо торжественно носимого и прославляемого ангелами». В это время в церкви открыты Царские врата, из которых выносят причастную чашу. Великий вход олицетворяет вход Господень в Иерусалим и сопровождается Его прославлением: «Hossanna!». «Хор вдохновенный, победоносный» означает победу над смертью и напоминает о спасении человека покаянием и молитвой, а также причащением Святых Даров.
В финале романа Аркадий сравнивает Версилова с купцом Скотобойниковым и рассказывает, как его отец пытался говеть в Великий пост, напевая: «Се женихъ грядетъ» ( Достоевский ; 11: 554). Эта молитва звучит в храме в первые три дня Страстной седмицы. В ней содержится призыв к духовному бодрствованию и подготовке к встрече с Христом и жизнью вечной. В романе «Подросток» завязка действия происходит в конце лета. 14 сентября по старому стилю — Воздвижение Честного и Животворящего Креста. Завершается роман приготовлением к Великому Посту. Таким образом, путь героев — это путь искупления, как и свидетельствует Книга Иова: «…человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх» (Иов 5:7). В ней содержится предсказание о появлении Искупителя и предстоящем воскресении из мертвых (Иов 19:25–27).
После позора на рулетке, в конце ноября в «адскую ночь», Аркадий оказывается на Дворцовой площади Петербурга, рядом с Медным всадником и Исаакиевским собором, и жаждет поджечь город, который создавался Петром Первым как новый Рим. В черновиках к роману «Подросток» есть запись: «Всё поджечь. Ночь на улицах, темный лик Богородицы у Знаменья» (Д30; 16: 62). От окончательного падения героя спасает молитва матери. Аркадий с покаянием вспоминает, как в Москве сразу после Святой недели в Светлое Воскресение Софья Андреевна благословляет его с молитвой: «…ну, Господь с тобой… ну, храни тебя ангелы небесные, Пречестная Мать, Николай-Угодник…» (Д30; 13: 272). Софья Андреевна — носительница соборного начала. В черновом автографе «Подростка» ее материнский образ несет благообразие: «Что живи в каком хочешь безобразии, но что, если существует еще материнская любовь, т. е. еще и благообразие» (Д30; 16: 365). Аркадий помнит одно из первых причащений в деревенском храме, куда привела его мать: во время принятия Святых Даров в храм впорхнул голубь и перелетел через купол из окна в окно [Гаричева, 2008: 159, 161].
После «катастрофы» и болезни Подросток приходит в сознание 27 ноября. Это день Явления чуда от иконы Знамения: Аркадий возвращается домой от Ламберта 18 ноября, после чего наступают девять дней беспамятства ( Д30 ; 13: 280). Память о чудесном избавлении Новгорода от суздальцев в XII в. благодаря первому заступничеству Пресвятой Богородицы на русской земле через Ее образ Знамения генетически живет в русском человеке. Вероятно, поэтому в черновике к роману «Подросток» Достоевский замечает по поводу отца Аркадия, Версилова: «от суздальских князей двенадцатого столетия» ( Д30 ; 16: 415). Смерть Макара Ивановича наступает, видимо, 6 декабря, в день Николая Чудотворца. В своих записках Аркадий замечает 3 декабря, что день рождения Софьи Андреевны будет через пять дней ( Д30 ; 13: 329). Затем пишет, что Макар Иванович не дожил до дня рождения Софьи Андреевны три дня ( Д30 ; 13: 393). В образе Макара Ивановича Долгорукого намечается новый для европейской литературы герой пророческого типа, соборная личность, в которой уравновешиваются динамическое и статическое начала.
В письме к А. Н. Майкову от 9 октября 1870 г. из Дрездена Достоевский вспоминает особо почитаемого на Руси Святого Заступника: «Пишете Вы мне много про Николая-Чудотворца. Он нас не оставит, потому что Николай-Чудотворец есть русский дух и русское единство» ( Д30 ; 291: 144–145).
Таким образом, путь Подростка — это движение от идеи Ротшильда, мечты об «уединении и могуществе» к противоположной идее нестяжания и соборности, носителем которой является Макар Долгорукий. В черновиках к роману Достоевский ищет соединение идей Макара Долгорукого и Версилова:
« Макар . Христа познай и Его проповедуй, а делами пример подавай, и будет незыблемо. Тем всему миру даже послужишь.
— Правда, — говорит Версилов, — Европа ждет от нас Христа. Она нам науку, а мы им Христа (в этом всё назначение России)» ( Д30 ; 16: 141).
По мнению О. Ю. Юрьевой, Достоевский считает главной задачей России «создание новой национальной личности, соединяющей в себе черты народа и интеллигенции, “национальной личности”, конечным идеалом которой станет соборная личность, синтезирующая в себе лучшие человеческие и христианские начала» [Юрьева: 18]. В русском человеке в «допетровский период» формирования государства, как это показывает Достоевский в июньской книге «Дневника» («Утопическое понимание истории»), сохраняется «Христова истина» ( Д30 ; 23: 46). В нем проявляются идеальные народные качества: сохранение Бога в сердце, чистота, кротость, простодушие, незлобливость, великодушие. В петербургский период русской истории перед русским человеком появляется опасность его отторжения от «почвы», от Бога («блудные дети»). Будущее России связано с восстановлением целостности русского человека и торжеством материнского начала в русском народе — это такие качества, как смирение, нежность и надежность, прямота, честность, заботливость и потребность великодушной жертвы.
«Дневник Писателя» 1876 г. — это целостное произведение, которое ориентировано на церковный календарный круг: начинается оно с января и празднования Рождества Христова, завершается декабрем и подготовкой к празднику Рождества. Именно этот выпуск содержит, как заметил В. Н. Захаров, рождественский рассказ «Мальчик у Христа на елке» и пасхальный рассказ «Мужик Марей» [Захаров, 1994: 137]. В «Дневнике Писателя» происходит обращение к Рождеству и Пасхе как важнейшим датам церковного календаря и лич- ного биографического времени писателя. Достоевский вспоминает о двух ключевых событиях своей жизни, которые пришлись на два великих праздника: 22 декабря — расстрел на Семеновском плацу и возвращение к жизни в канун Рождества Христова (декабрьская статья «Опять о простом, но мудреном деле» — Д30; 24), укрепление веры в русский народ на каторге во время празднования Пасхи (февральская статья «Мужик Марей» — Д30; 22). В 1876 г. начало Великого поста пришлось на 15 февраля8. Рукописные заметки Достоевского о февральском номере, изученные Н. А. Тарасовой, свидетельствуют о тщательной разработке материала и особом отношении к нему Достоевского, который переживал, что включил в выпуск полемику с адвокатом Спасовичем: «Я погубилъ мой №, но пусть не останется безъ протеста» [Тарасова, 2011: 261]. Очевидно, что автобиографические аллюзии в главах журнала становятся знаками для читателя: они подчеркивают особенное значение для автора идей, которые утверждаются на данных страницах.
Д. Б. Терешкина считает, что «Четьи-Минеи» не случайно упоминаются в «Дневнике Писателя» 1876 г., в романах «Идиот» и «Братья Карамазовы» [Терешкина: 77–80], поскольку Достоевский при создании романов опирается на их традицию [Терешкина: 65–68].
На наш взгляд, Ф. М. Достоевский обращается не только к традиции «Четьих-Миней», но и к общей богослужебной традиции, которая включает христианина в сакральное время. Православное богослужение — это вечерня (вспоминается грехопадение человека и приносится покаяние), утреня (посвящается надежде на приход Спасителя) и Литургия, центром которой является общая молитва и Евхаристия, причащение Святых Даров. Обязательным чтением на Литургии является Апостол и Евангелие.
Богослужебный текст создается на основе соотнесения параллельных сюжетных мотивов, фабульных элементов из Ветхого и Нового Завета. Во время богослужения происходит обращение к духовному смыслу Священного Писания. Это осуществляется разными способами: прообразом (указанием исторических событий и лиц), притчей (повествованием о лицах и событиях из обыденной жизни), апологом (через приписывание животным и растениям человеческих действий), видениями (явлением Божественного Откровения) и символами [Александр (Милеант)]. Произведения Достоевского можно рассматривать как текст, составляющей которого являются цитаты, аллюзии, ссылки, прецедентные феномены (имена, ситуации, тексты), обращающие к Евангелию и Священному Писанию. Их актуализация выводит повествование на новый уровень, отсылочные тексты моделируются в сознании читателя как разные маршруты, которые направлены к единой цели — спасению души и согласию с читателем вокруг евангельской истины.
Хотя тема Рождества Христова начинает «Дневник Писателя», в нем показано движение от Рождества к Пасхе, Светлому Воскресению, единению народа вокруг евангельской истины. Если в январском номере «Дневника» соборное начало («золотой век») только прозревается в русском человеке, то в августе, когда празднуется Преображение Господне, Достоевский видит соборное начало в русском народе, который готов положить свой «живот» за сербских и болгарских братьев. Кульминацией цикла становится пасхальный рассказ «Мужик Марей», где подчеркивается материнское начало в русском человеке. Завершается «Дневник Писателя» 1876 г. декабрем — временем, когда идет Рождественский пост, и размышлением о семье как малой церкви.
В «Дневнике Писателя» 1876 г. текущей действительности противопоставлена идеальная. Январский выпуск начинается с молитвы «великого Гете»: «Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне» ( Д30 ; 22: 6). Достоевский, обращаясь к читателю, напоминает о возможности «золотого века»: «Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! <…> И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?» ( Д30 ; 22: 12–13). Идеальное соборное начало писатель обнаруживает не в текущей жизни, а на «елке у Христа».
Для Достоевского идея «золотого века» должна дополняться христианской идеей религиозного преображения и спасения. В черновике романа есть запись: «Золотой век. Макар
Иванович и Мария Египетская» ( Д30 ; 16: 420). Н. А. Тарасова останавливается на содержании раздела «Что на водах помогает: воды или хороший тон?» главы 4 «Дневника Писателя» (июль — август 1876 г.). В ней автор ведет диалог с Парадоксалистом, который цитирует тексты, параллельные в Притчах Соломона и в Евангелии от Матфея: «Не заботьтесь во что одеться, взгляните на цветы полевые, и Соломон во дни славы своей не одевался как они, кольми паче оденет вас Бог». Повествователь объясняет, что идея «золотого века» Версилова связана с природным догреховным состоянием человека, а в Евангелии говорится о христианском идеале, об освобождении от внешнего и заботе о духовной пище [Тарасова, 2011: 112]. Достоевский размышляет о религиозном преображении человека во время Успенского поста, когда празднуется Преображение Господне.
В «Дневнике Писателя» 1876 г. Достоевским показывается «жизненный факт как новое проявление евангельской истины» [Гаврилова: 290]. Необходимо уточнить, что временное и вечное при этом соединяются благодаря цитатам не только из Евангелия, но из богослужебных текстов. В рассказе «Мальчик у Христа на елке» содержится цитата из евхаристического канона Литургии: «Он сам посреди их» ( Д30 ; 22: 17). В статье «Колония малолетних преступников» цитируется рождественский тропарь, который звучит на праздничном богослужении: «Рождество твое Христе Боже Наш» ( Д30 ; 22: 21). Февральская книжка «Дневника Писателя» обращает читателя к «Четьям-Минеям» и содержит сравнение русских европейцев с «блудными детьми, двести лет не бывшими дома, но воротившимися, однако же, все-таки русскими» ( Д30 ; 22: 45). Неделя о блудном сыне отмечается церковью на вторую неделю перед Великим постом — это и есть время создания статьи.
Пасхальный рассказ «Мужик Марей» из «Дневника Писателя» (февраль 1876 г.) содержит аллюзию к «Запискам из Мертвого Дома»: автор пишет о своем мрачном настроении, о ненависти к каторжанам, которую испытывает, включает сюжет с избиением Газина, однако до конца не объясняет причины своего мрачного настроения. Прецедентное имя должно напомнить потенциальному читателю, что Газин чуть не убил рассказчика «Записок из Мертвого Дома» и никто за него не вступился. Горянчиков испытывает тяжелое чувство из-за ненависти каторжан к нему как к дворянину и сам питает подобное чувство к ним. Таким образом, Достоевский сближает рассказчика «Записок из Мертвого Дома» и себя, хотя и делает специальную оговорку о различии. Светлое воспоминание о мужике Марее приходит в тяжелую минуту особенного разъединения с каторжанами. Написана эта глава в феврале, когда начался Великий Пост. Для автора воспоминание о Пасхе на каторге связано с важным моментом, когда в его душе ненависть сменилась любовью. Детское впечатление о встрече с крепостным крестьянином Мареем, который сумел успокоить и ободрить мальчика в тот момент, когда он испугался волка, открыло «материнское» начало в душе русского народа. Трижды повторяется этот эпитет при описании улыбки «мужика Марея»: «улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой», «матерински мне улыбался» (Д30; 22: 48), «нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика» (Д30; 22: 49). Материнская улыбка русского крестьянина открыла писателю его сердце, готовое к любви и заботе, нежность и одновременно надежность русского человека, готовность поддержать и защитить того, кто нуждается в защите.
В романе «Подросток» Макар Иванович вспоминает сюжетный мотив утешения в беседе с Софьей Андреевной: «А то разъ волка испугалась, бросилась ко мнѣ, вся трепещетъ, а и никакого волка не было» ( Достоевский ; 11: 408).
В мартовской статье «Дневника Писателя» «Дон Карлос и сэр Уаткин» Достоевский дает характеристику Версилову как русскому европейцу, который остается без веры. «Началом конца», по мнению писателя, является «страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни» ( Д30 ; 22: 97). Дон Карлос сравнивается автором с Великим инквизитором: он «проливает реки крови» «во имя короля, веры и Богородицы» ( Д30 ; 22: 92, 93). Писатель не может в праздник Благой вести, которую услышала и приняла Пресвятая Богородица, не уточнить: «…во имя Богородицы <…> “скорой заступницы и помощницы”, как именует ее народ наш» ( Д30 ; 22: 93).
Пресвятая Богородица явила пример кротости и смирения в принятии воли Божией, для Достоевского (как и для Гоголя в «Размышлениях о Божественной Литургии») это во многом соотносилось с крестом, который несет русский человек, выполняя свое назначение.
Среди вариантов апрельской книги 1876 г. есть размышления писателя о «правде народной» в изображении гибели Мироновых в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»:
«Смерть коменданта и комендантши есть чисто русская смерть, а не общечеловеческая. То, как они прощаются друг с другом перед боем с Пугачевым, как отвечает комендант Пугачеву и как кричит комендантша, увидев повешенного своего [коменданта] мужа, про солдатскую головушку — всё это русское, всё это дух русский, всегдашний, исконный, не от преобразования Петра происшедший <…>, а русский, смиренный, [а не героичный] и закрыто великодушный» ( Д30 ; 22: 214).
Когда комендант хочет отправить свою жену из крепости, чтобы не подвергать ее жизнь опасности, она возражает: «Вместе жить, вместе и умирать»9. Ранее, объясняя свое вмешательство в служебные дела мужа, комендантша говорит: «…Разве муж и жена не един дух и едина плоть?»10. Здесь Василиса Егоровна напоминает о словах из Послания апостола Павла, которые звучат во время таинства венчания в православной церкви. Цитата из этого же чтения, из Послания к Ефесянам, приводится в декабрьской книге «Дневника»: «Никто же плоть свою возненавиде» ( Д30 ; 24: 54). В этом Послании св. апостола Павла речь идет о любви и о семье как малой церкви: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь» (Еф. 5:29). Эти слова звучат во время венчания и завершаются формулой: «Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5:32). В черновиках к роману «Подросток» в проповеди Макара Долгорукого также говорится о «единой душе в двух телесах» ( Д30 ; 16: 402). Все главы декабрьской книги «Дневника Писателя» объединяет чувство опасения за всеобщее разъединение, которое коснулось общества и семьи. Лекарство, по мнению Достоевского, в «народе, в святынях его и в нашем соединении с ним» ( Д30 ; 24: 52).
В декабрьской книге «Дневника Писателя», которая помещена сразу за рассказом «Кроткая», Достоевский включает читателя в судебный дискурс: он пишет о судьбе Корниловой, которая в состоянии болезненного аффекта выбросила из окна свою падчерицу. Размышления следуют почти сразу за вопросом рассказчика «Кроткой»: «“Люди, любите друг друга” — кто это сказал?» ( Д30 ; 24: 35). Эта аллюзия к Нагорной проповеди разворачивается в утверждение о «страшном уроке», который поможет «созреть тем семенам и зачаткам хорошего, которые видимо и несомненно заключены в этой юной душе» ( Д30 ; 24: 43). Обращение к евангельской притче о сеятеле (Мф. 13:23) пробуждает в авторе воспоминание о том, что было с ним в декабре 1849 г. в канун Рождества на Семеновском плацу Петропавловской крепости:
«Дай Бог, чтоб эту молодую душу, столь много уже перенесшую, не сломило окончательно новым обвинительным приговором. Тяжело переносить такие потрясения душе человеческой: похоже на то, как бы приговоренного к расстрелянию вдруг отвязать от столба, подать ему надежду, снять повязку с его глаз, показать ему вновь солнце и — через пять минут вдруг опять повести его привязывать к столбу» ( Д30 ; 24: 42).
Писатель выражает веру в возможность возрождения семьи.
Обращаясь к политической ситуации в мире, Достоевский почти не использует евангельские цитаты. Но в августе, когда празднуется Преображение Господне, он пишет о желании русского народа помочь сербским и болгарским братьям в борьбе против турок как об исполнении важнейшей евангельской заповеди любви к ближнему и о готовности русских людей к самопожертвованию: «“положи живот свой за угнетенного, за ближнего, выше нет подвига” — вот что говорит мотив единоверия!» ( Д30 ; 23: 130).
Достоевский в «Дневнике Писателя» определил то, чем спасется русский народ. Писатель верил, что народ русский хранит чистый образ Христов в своей православной вере (Д30; 23: 130). В то же время, он понимал важность петербургского (европейского) периода в истории России. Реформы Петра Великого позволили России преодолеть свою замкну- тость (Д30; 24: 183), но привели не к подражанию Западу, а к расширению мировоззрения русского человека: «Нужна была образованность, состоящая в знании миров других народов, в сообщении с ними, в служении им» (Д30; 24: 184).
В романе «Подросток» в Аркадии Долгоруком пробуждается самосознание. Этого героя можно отнести к типу «текущей действительности», которая устремлена в будущее. Преображение личности у Достоевского происходит на основе смирения и проявления свободы воли как следования воле Божией.
Таким образом, роман «Подросток» и «Дневник Писателя» 1876 г. объединяет опасение Достоевского за всеобщее разъединение, которое коснулось общества и семьи, потерю высшего смысла жизни человеком. Идее стяжания материальных благ писатель противопоставляет христианские идеалы не-стяжания и соборности. Идея самостояния личности и народа соотносится с историческими народными идеалами, получившими отражение в житиях Сергия Радонежского, Тихона Задонского, трудах Нила Сорского. Общим становится также творческий метод, сочетающий реализм «проклятых вопросов» с идеей утешения и спасения. Размышления о текущей и идеальной действительности, о семье как малой церкви, о поисках идеальных начал в русском народе в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» вводятся в контекст великопостных богослужебных текстов, содержащих тему Страшного Суда, покаяния и воскресения. Церковный календарь, прецедентные тексты, обращающие к Евангелию и Священному Писанию, среди которых особенно часто используются Книга Иова и притча о блудном сыне, рождественские и пасхальные рассказы моделируются в сознании читателя как путь к спасению и единению вокруг евангельской истины. Можно утверждать, что в романе «Подросток» рождается новый для европейской литературы герой пророческого типа, соборная личность, а сам роман, вбирая в себя жанровые элементы европейского романа, трансформируется в новую жанровую форму, опирающуюся на национальные традиции, которая впоследствии получит законченное выражение в последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы».
Список литературы Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе "Подросток" и "Дневнике писателя" (1876) Ф. М. Достоевского
- Александр (Милеант), еп. Священное Писание Ветхого Завета [Электронный ресурс]. URL: https://predanie.ru/book/69096-svyaschennoe-pisanie-vethogo-zaveta (07.04.2020).
- Габдуллина В. И. Авторский дискурс Ф. М. Достоевского: проблема изучения. Барнаул: АлтГПА, 2010. 138 с.
- Гаврилова Л. А. Коммуникативные стратегии и евангельская цитата в «Дневнике Писателя» Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2015. № 13. С. 287-303 [Электронный ресурс]. URL: https:// poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449862951.pdf (07.04.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.2015.2653
- Гаричева (Федорова) Е. А. Голоса героев в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Христианство и русская литература. СПб.: Наука, 2002. Сб. 4. С. 364-382.
- Гаричева (Федорова) Е. А. Тихон Задонский как прообраз Макара Долгорукого в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Историческая связь времен: IX Иннокентьевские чтения. Ч. 1. Чита: Центр. гор. б-ка им. А. П. Чехова, 2006. С. 156-160.
- Гаричева (Федорова) Е. А. «Мир станет Красота Христова». Категория преображения в русской словесности XVI-XX веков. В. Новгород: МОУ ПКС «Ин-т образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2008. 298 с.
- Гаричева (Федорова) Е. А., Приймак В. В. Музыкальное творчество героев Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и Томаса Манна // Достоевский и современность: материалы XXI Международных Старорусских чтений 2006 г. В. Новгород: [б. и.], 2007. С. 78-86.
- Живолупова Н. В. Проблема авторской позиции в исповедальном повествовании Достоевского 60-70-х гг. («Записки из подполья», «Подросток»). Н. Новгород: Дятловы горы, 2018. 232 с.
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского / ПетрГУ; отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. С. 37-49.
- Захаров В. Н. Достоевский и Евангелие // Евангелие Достоевского: в 2 т. М.: Русскш м1ръ, 2010. Т. 2.: Исследования. Материалы к комментарию. С. 5-35.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Инд-рик, 2013. 456 с.
- Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М.: Раритет, 2005. 507 с.
- Тарасова Н. А. Фаустовская сцена в романе Достоевского «Подросток» // Русская литература. 2010. № 1. С. 171-187.
- Тарасова Н. А. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского (1876-1877). Критика текста. М.: Квадрига; МБА, 2011. 392 с.
- Терешкина Д. Б. «Четьи Минеи» и русская словесность Нового времени. В. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2015. 332 с.
- Федорова Е. А. Евангельское как родное в «Братьях Карамазовых» и «Дневнике Писателя» (1876-1877) Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2015. № 13. С. 304-316 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1456330696.pdf (07.04.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2015.2659
- Хансен-Лёве Оге. Дискурсивные процессы в романе Достоевского «Подросток» // Автор и текст: сб. ст. / под ред. В. М. Марковича и В. Шмида. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. С. 229-267.
- Юрьева О. Ю. Тема семьи и семейного воспитания в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского // Литература в школе. 2003. № 8. С. 26-28.
- Якубова Р. Х. Диалогическая конвергенция библейских и литературных фабул в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 173-187 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1457958310.pdf (07.04.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2012.349
- Якубович И. Д. Поэтика ветхозаветной цитаты и аллюзии: бытование и контекст // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2005. Т. 17. С. 42-60.
- Thompson D. O. Problems of the Biblical Word in Dostoevsky's Poetics // Dostoevsky and the Christian Tradition / ed. by G. Pattison, D. O. Thompson. N. Y.: Cambridge University Press, 2001. Pp. 69-99.
- Pain J. Becoming a Rothschild: Trading Narrative in Podrostok // Dostoevsky Studies. 2018. Vol. 22. Pp. 59-71.
- Pyman A. Dostoevsky in the Prism of the Orthodox Semiosphere // Dostoevsky and the Christian Tradition / ed. by G. Pattison, D. O. Thompson. N. Y.: Cambridge University Press, 2001. Pp. 103-115.