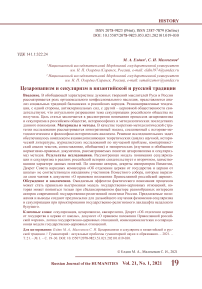Цезаропапизм и секуляризм в византийской и русской традиции
Автор: Елдин Михаил Александрович, Малоземов Сергей Иванович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. В обобщающей характеристике духовных творений мыслителей Руси и России рассматривается роль ортодоксального конфессионального наследия, представляется анализ социальных традиций балканских и российских народов. Разнонаправленные тенденции, с одной стороны, антиклерикальных сил, с другой - церковной общественности свидетельствуют, что актуального разрешения тема секуляризации российского общества не получила. Цель статьи заключается в рассмотрении понимания процессов цезаропапизма и секуляризма в российском обществе, историософских и методологических последствиях данного понимания. Материалы и методы. В качестве теоретико-методологической стратегии исследования рассматривается интегративный подход, соединенный с историко-методологическим и философско-историческим анализом. Решение исследовательских задач обеспечивалось комплексом взаимодополняющих теоретических (анализ научной, исторической литературы, журналистских исследований по изучаемой проблеме, компартивистский анализ текстов, сопоставление, обобщение) и эмпирических (изучение и обобщение нормативно-правовых документов, рассматриваемых понятия цезаропапизма и секуляризма) методов. Результаты исследования. Рассмотренная модель понимания секуляризации и секуляризма в реалиях российской истории свидетельствует о вторичном, заимствованном характере данных понятий. По мнению авторов, декреты императоров Византии, Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и церкви от школы» не соответствовали ожиданиям участников Поместного собора, которые выразили свои чаяния в документе «О правовом положении Православной российской церкви». Обсуждение и заключение. Ожидаемым эффектом фактического понимания процессов может стать правильно выстроенная модель государственно-церковных отношений, которая может появиться только при сбалансированном факторе разнообразных интересов акторов современной государственно-религиозной политики России. Предлагаемые положения и выводы создают предпосылки для дальнейшего изучения феноменов секуляризма и секуляризации при проектировании государственно-религиозного ландшафта недалекого будущего.
Секуляризация, цезаропапизм, квазирелигия, декрет «об отделении церкви от государства и церкви от школы», документ «о правовом положении православной российской церкви», логика государственно-церковных отношений, конвенционалистская и сепарационная модели государственно-церковных отношений
Короткий адрес: https://sciup.org/147218529
IDR: 147218529 | УДК: 141.1:322.24 | DOI: 10.15507/2078-9823.53.021.202101.019-030
Текст научной статьи Цезаропапизм и секуляризм в византийской и русской традиции
На всем протяжении истории существования отечественной культуры не теряют актуальности вопросы самоопределения народов и обществ в области нравственности. Одной из тенденций современности в отмеченной сфере выступает кризис восточно-христианского наследия на фоне интенсивной экспансии западной системы ценностей и нравственных установок.
Однако, обладая огромным потенциалом, восточное православие постепенно начало восстанавливать позиции после той духовной катастрофы, которой была гибель Византийской империи в 1453 г., когда Константинополь пал под ударами турок-османов. Востребованность и актуальность византийской святоотеческой традиции объясняется присущими ей чертами. Среди них выделяются: свобода личности, кото- рая была уникальной в церковной истории; нацеленность на диалог с инакомыслящими, объясняемый стремлением к синергизму в чувствовании и действии.
Антиклерикальные силы также с большим энтузиазмом откликнулись на данный юбилей. Например, в Санкт-Петербурге 4 февраля 2018 г. прошел согласованный с властями одного из районов города митинг «Антиклерикализм-2018» под лозунгом «Царство церквей – царство цепей!»1. Истоки данного закона лежат, на наш взгляд, в давних традициях процесса секуляризации, который начался задолго до 1918 г.
Секуляризация (первоначально – от латинского слова saeculum «век», далее в значении saekulari(u)s «светский, мирской») – освобождение современной западной цивилизации из-под влияния религии – пришлась на период развитого модерна (середина XVIII – середина XX в.) и часто понималась философами, политологами и социологами как процесс социальных изменений в ходе модернизации и прогресса. Как пишет философ В. Гараджа, «с точки зрения Вебера, католицизм, лютеранство, кальвинизм предстают как ступени процесса рационализации религией социальной деятельности, ведущего к “расколдовыванию мира” и означающего самоотрицание иудеохристианского типа религиозности, его обмирщение, замену религиозной картины мира научной, религиозной культуры – светской» [2]. Наиболее радикальные концепции секуляризации рисовали модель, при которой в результате неуклонного развития, экономических и социальных преобразований религия будет окончательно устранена из жизни людей. Под влиянием протестантских моделей «естественного права», «свободы совести» христианство, доминировавшее в Европе и оказывающее сильнейшее влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе на культуру, постепенно выводилось из сферы общественного дискурса. Еще в начале – середине XX столетия процесс секуляризации делал весьма успешную попытку свести религиозную систему христианства к неглавным, вторичным социальным институтам, а может, и вообще покончить с религией как отсталым предрассудком. Однако весьма неожиданно для многих исследователей во второй половине XX в. религия стала выбираться из искусственно созданного для нее гетто. Этот процесс продолжается и до сего дня, что позволяет говорить о наблюдающемся возрождении интереса к религии, важности религиозной идентичности человека, все возрастающей роли религиозных институций в социальной жизни общества [3, с. 41–43].
Царская власть как в Византии, так и в России выступала центром схода сил общественного напряжения. К функциям царской власти относилось снятие данного напряжения. Поэтому в русской конфессиональной культуре власть православного царя воспринимается в качестве гарантии возможного спасения после смерти. Неудивительно, что массовый характер крестьянских войн не может быть объяснен исключительно наличием социально-экономических проблем. Особую значимость представляет и ощущение потери «чувства святости» государства, окончания «освященной благодатью» жизни и наступления бездуховности, что остро ощущалось религиозными философами в начале ХХ столетия. Интерес к изучению национальной специфики, корням русской жизни, характерный для религиозных мыслителей того времени, поддерживался необходимостью осмысления ценностей российской государственности. Порой подобные попытки доходили до шовинистических вы- падов. Начиная с ХVIII столетия московская соборная общественность была заменена петербургской.
Традиционно философы рассматривают антиномизм, присущий анализу русской национальной психологии. Так, Н. А. Бердяев в качестве совокупности ее факторов выделяет особенность географического положения России (между Востоком и Западом), смешение языческих верований с православием Византийской империи, а также основной корень полемики – несоединимое мужское и женское начало в русском духе и русской природе.
Поскольку светская власть в России постоянно отвлекалась от нравственного авторитета, народ черпал духовную силу, святость, связывал высший нравственный идеал с учением, жизнью, судьбой хранителя веры. Проблемы смысла человеческой жизни, абсолютной ответственности за себя, за другого, за мир в целом, борьбы со злом и многие другие – красная нить в творчестве русских мыслителей. Их философию можно назвать метафизикой любви, совести, добра. Его концентрированное выражение – фундаментальный труд В. Л. Соловьева «Оправдание добра. Моральная философия», в котором добро онтологически трактуется как высшая сущность, которая воплощается в различных формах – в истории человечества, индивидуальном бытии человека, религии церкви.
Материалы и методы
Отечественные науку и богословие традиционно волнуют не только тема взаимоотношений государственной и церковной власти в Византийской империи, но и проблема влияния этих государственноцерковных отношений на Русь (Россию). Несомненно, опыт византийской цивилизации представляет собой составную часть русской традиции, в связи с чем научно- практическое значение представляет опыт осмысления государственно-церковных отношений Византии. Многие исследователи эту систему отношений определяют как цезаропапизм. Однако данный термин нуждается в дополнительном исследовании. Так, в энциклопедии «Русская философия» (2007) цезаропапизм определяется как такое соотношение государства и церкви, при котором государственные интересы превалируют над церковными, а государственная власть, являясь верховной, превращается в центр религии. Следовательно, царь одновременно наделен не только абсолютной светской властью, но и жреческими функциями, тем самым являясь наместником Бога на земле2. Однако разделения на царскую и духовную власть в Византийской империи не существовало, ибо вся полнота власти была сосредоточена в руках императора. К тому же для России особое значение приобрела проблема секуляризма российского общества. По мнению Ф. Гайды, М. А. Елдина, Х. Йоаса, В. Цыпина, А. Ро-куччи, П. Скрыльникова, И. К. Смолича, Д. А. Цыплакова, А. Щипкова, понимание цезаропапизма и секуляризма невозможно без понимания духовной области, которая представляет собой условие для преломления системы отношений между государством и церковью, в том числе в России, столь неоднозначно оцениваемой исследователями.
Использованы преимущественно методы теоретико-методологического направления: историко-методологический и философско-исторический, реализация которых во взаимосвязи с интегративным подходом обеспечивает определенный результат.
Необходимо обратить внимание, что термин «секуляризм» был введен в научный обиход английским писателем-агностиком Дж. Холиаком в 1846 г. В дискуссии с англи- канским священнослужителем Б. Грантом, опубликованной в 1853 г. под названием «Христианство и секуляризм», Дж. Холиак выразил основную идею теории естественной морали без отсылок к понятию Бога, сакрального или любым религиозным ценностям. В дальнейшем продолжатели дела Холиака все более радикализировали понятие секуляризма, превратив его, по сути, в атеистический концепт с жестко антиклерикальной направленностью.
Не нужно думать, что Россия стала пионером в деле общегосударственной секуляризации в жестком антицерковном виде. Не менее жаркие споры о секулярности велись в Германии в 90-е гг. XIX в. в связи с реформой среднего школьного образования, а также во Франции примерно в то же время, когда в стране шла острая политическая дискуссия о принципах светской культуры и светского государства. Принятое в результате французское антиклерикальное законодательство 1905 г.3 было подвергнуто жесткой критике со стороны католического епископата по причине отказа Республики покровительствовать религии, содержать и финансировать ее (ст. 2). При этом отмечалась возможность оказания государством финансовой помощи религиозным организациям при определенных условиях. Именно данное противоречие в ст. 2 позволило французскому социологу Э. Пуля обоснованно заявить, что Республика все-таки религию признает, субсидирует, оплачивает, финансирует и освобождает от налогов4. В конечном счете в документах и декларациях французского католического епископата к 1925 г. было сформулировано разграничение понятий laïcisme как анти-церковной светскости и laïcité как допусти- мой в общественно-политической жизни нецерковности. Следует заметить, что оба термина уже существовали во французском языке, но католические богословы посчитали нужным наполнить их необходимым объемом содержания для более точного выражения мысли.
Проведя серьезный анализ темы светскости государства во Франции, профессор М. Шахов указывает: «Конституция Франции не дает никакого юридического определения принципа светскости; а само понятие “светскость” является неоднозначным» [9].
Результаты исследования
Итак, несколько важных замечаний. Во-первых, у понятия светскости нет однозначной юридической трактовки даже для Франции, где оно является одним из важнейших принципов государственного конституционного строительства. Во-вторых, принцип светскости, секулярности имеет скорее нейтральный характер, когда государство нейтрально относится к различным конфессиям, уважая плюрализм и религиозную свободу граждан. В-третьих, Закон о разделении церквей и государства от 9 декабря 1905 г. постепенно теряет значение и уходит в область неглавных, вторичных законов, «которыми пренебрегают».
В дальнейшем на уровне Римско-католической церкви принимались документы, характеризующие секуляризм как материалистическое и атеистическое мировоззрение. Так, документы II Ватиканского собора определяют, что «град земной, по праву предающийся мирским заботам, управляется по своим собственным принципам». Данное обстоятельство повышает значимость отказа от злополучного учения, которое строительство нового общества не связывает с религией и религиозной свободой граждан, тем самым разрушая ее5. Речь идет о секулярности как учении, идеологии.
Обсуждение
В религии дуализм добра и зла принимает форму святости – греха как земных воплощений этого дуализма. Под святостью русские понимают идеальный образ жизни, стремление к духовной телесности как истинной сущности существования человека. Проблема достижимости духовной телесности означает подчинение христианину язычника. Это объясняет почитание русскими «святых», для которых неприемлемо внешнее сопротивление, но внутренняя борьба с собой. Но, по большей части, русские люди не стремятся к святости, не только не стараясь, но и не желая до конца подавить в себе самое сильное языческое начало. Русский человек охотно соглашается, что каждый несет на себе «печать греха», но всегда верит в истину искупления. Протоиерей В. В. Зеньковский в работе «Принципы православной антропологии» сказал, что грех поразил природу человека, который из-за этого заболел, но грех не лишил человека его образа Божия из-за чего-то и может быть время, чтобы сбросить силу греха и войти в истину сыновства с Богом6. Уверенность в Божьей милости дает русскому человеку некоторую надежду на то, что его грехи будут прощены, и, следовательно, он мало думает о безупречной морали в течение жизни. Каждая империя – не только геополитическое и социальное явление, но и культурное. Это приведение мира в соответствие с тем идеалом, который свойственен тому или иному народу. Идеальные мотивы могут превалировать над другими. Организация в российском обществе как тип общества была главным элементом политической социальной сферы российского общества.
Царственный венценосец являлся воплощением истинной духовности и нравственности, краеугольным камнем существовавшего миропорядка. При этом для России была характерна сакрализация монархической власти в православно-универсалистских категориях. Однако нетрудно заметить, что стремление дворянских и военных элит любой ценой законсервировать имперскую основу государственности привело к распаду как элит, так и империй, который лишь ускорился Первой мировой войной. Так, в России претензии высшего офицерства на сохранение статуса Третьего Рима, имевшие продолжением идеологию Белого движения в борьбе за реставрацию «единой и неделимой» империи, послужили одной из главных причин его краха. Процесс секуляризации также не протекал гладко. Первые отголоски начинающихся процессов секуляризации можно усмотреть в споре иосифлян с «нестяжателями» на рубеже XV– XVI столетий. Уже при «великом государе всея Руси» Иоанне Васильевиче III (1462– 1505 гг.), в 80-е гг. XV в., вместе с ослаблением новгородской вольницы были секуляризированы (буквально – изъяты из церковной собственности и возвращены в государственную) часть монастырских земель Новгородчины. Тогда же внутри церкви остро встал вопрос о необходимости землевладения и получения церковью прибытка за счет сельскохозяйственного производства. Подобные тенденции (присвоение церковной собственности) продолжились и в последующие годы, при царе Иоанне Васильевиче (Грозном) (1533–1584 гг.). В этом же ряду можно вспомнить споры между царем Алексеем Михайловичем (1645– 1676 гг.) и Святейшим Патриархом Никоном о правильном понимании царско-церковных отношений и их разграничении.
При императоре Всероссийском Петре Алексеевиче Романове (1682–1725 гг.) Церковь потеряла патриаршее управление и была фактически поставлена в разряд с другими государственными ведомствами; над Церковью был учрежден новый надзирающий орган – обер-прокурор Священного синода. По словам немецкого философа Ю. Хабермаса, произошло принудительное отчуждение церковного имущества в пользу государственной власти, которую он называл «секулярной» [11, s. 12]. Особенно сильные процессы секуляризации (в значении отъема церковной собственности и земли, сокращения церковных учреждений, монастырей) происходили в царствование императрицы Анны Иоанновны (1730– 1740 гг.). Подобная тенденция наблюдалась также в правление императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.), когда произошло разделение монастырей на классы и значительное их сокращение. «Блистательное время» просветительских инициатив императрицы Екатерины Великой (1762– 1796 гг.) было отнюдь не «блистательным» для Русской церкви. Достаточно вспомнить подписанный императрицей «Манифест о секуляризации» от 8 марта 1764 г., по которому 567 из 954 действующих монастырей подлежали ликвидации, а также было изъято из церковного владения около 9 млн га земли [7, с. 365–377].
Начало XIX в., ознаменованное Отечественной войной 1812 г. и попытками революционных потрясений, заставило государственную власть обратить большее внимание на внутренние, российские про- блемы, в том числе проблемы взаимоотношений с Церковью. Было улучшено денежное содержание духовенства, принято положение о системе церковно-приходских школ, отрыты новые духовные семинарии и академии, поддерживалась миссионерская деятельность среди так называемых малых народов Российской империи (система «просвещения инородцев» Н. И. Иль-минского)7 и даже далеко за ее пределами (просветительская деятельность святителя Николая (Касаткина) в Японии). Нужно отметить, что в дело осмысления особого пути русского православия немало внесло просвещенное монашество, поддерживаемое традициями «старчества» и «умной молитвы», возрожденными усилиями старца Паисия (Величковского). Ученики старца Паисия заново воссоздавали монашескую жизнь, совершая дела благотворительности и милосердия [7, с. 447–456]. Оглядываясь на тысячелетнюю историю России, К. Н. Леонтьев видел ее в консерватизме религиозно-нравственных институтов византийского православия защитный палладий, который спас русское общество от разрушения: «Византизм дал нам силы вынести татарский погром и долгое данниче-ство. Византийский образ Спаса осенял на Великокняжеском знамени верующие войска Димитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Московская Русь уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь» [4, c. 323].
Нужно заметить, что до трагических событий 1917–1918 гг. процесс секуляризации в России не имел явно выраженной атеистической подоплеки. Секуляризация в России, как мы уже подчеркнули выше, касалась только хозяйственных и земельных вопросов. Церковь была частью государственной системы, а православие было государственным исповеданием. Подобное понимание подтверждает и статья «Секуляризация в России» из Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона8. С этой позицией солидарен и современный итальянский историк А. Роккуччи, утверждающий, что «общество, культура и сама политика в России накануне октябрьской революции глубоко пропитаны религиозным содержанием и чувством» [5, с. 96].
События февраля 1917 г., когда случились отречение императора Николая Александровича и приход к власти Временного правительства, отчасти застали церковь врасплох. Святейший Правительствующий Синод не смог сразу определиться по отношению к Временному правительству и правильно оценить сложившуюся ситуацию. Только 9 марта 1918 г. Синод выступил с воззванием о поддержке Временного пра-вительства9. При этом «7 марта Временное правительство по докладу обер-прокурора В. Львова поручило ему инициировать разработку ряда церковных реформ. Предполагалось провести приходскую и епархиальную реформы с переустройством управления “на церковно-общественных началах”». Новая революционная власть стала диктовать Синоду, епископату и всему духовенству жесткие условия дальнейшего существования Русской церкви. «Свобода Церкви» оборачивалась еще более жестким диктатом. 8 марта шесть архиепископов – членов Синода, включая Сергия (Страго-родского) и святителя Тихона (Беллавина), выступили с заявлением обер-прокурору, в котором выражали протест против принятого накануне постановления Временного правительства. Архиереи напоминали о только что произнесенных словах о «свободе Церкви» и отмечали: «Св. Синод во всем пошел навстречу этим обещаниям, издал успокоительное воззвание к российскому народу и совершил другие акты, необходимые, по мнению Правительства, для успокоения умов». Острейший конфликт между В. Львовым и Синодом закончился их полным разрывом и роспуском дореволюционного состава Синода [1].
Долго находиться в таком положении, не имея реальных органов управления, церковь не могла. Одновременно часть влиятельных митрополитов и архиепископов осознавали, что необходимо созвать Поместный собор Русской православной церкви, где наметить пути выхода из создавшейся ситуации, а возможно, и поднять вопрос об избрании патриарха. Подобная инициатива не получила сопротивления со стороны Временного правительства. Напротив, она была воспринята реформаторами-временщиками как необходимая мера по пути демократизации церковной жизни в России.
Уже в августе 1917 г. началась первая сессия Чрезвычайного Поместного собора. Собор продлился больше года, и на его фоне произошли страшные потрясения основ русской жизни: продолжалась война с Германией, закончившаяся позорным Брест-Литовским миром; провозглашение России республикой (1 сентября 1917 г.); падение Временного правительства, Октябрьский переворот, разгон Учредительного собрания, издание Декрета об отделении церкви от государства и начало Гражданской войны.
2 декабря 1917 г. пленарное заседание Собора приняло определение «О правовом положении Православной российской церкви». Документ был подготовлен группой ученых, одним из которых являлся философ, богослов, общественный деятель профессор Московского университета С. Н. Булгаков.
В документе была выражена точка зрения Поместного собора на возможные взаимоотношения с будущим российским гражданским правительством, выбранном на Учредительном собрании10. Также в нем были заложены основные подходы к теме разграничения государственного и церковного устроения жизни, как его видели члены Поместного собора. Предлагалась конвенционалистская парадигма государственно-религиозных отношений при доминировании государственно-церковных отношений, возможно, на основе дополнительных договоренностей. Логика документа носила следующий характер. Вначале провозглашался «первенствующий публично-правовой статус церкви». Следующим пунктом определялась самостоятельность церкви в вопросах догматического, канонического, вероучительного и богослужебного характера. Далее указывалось на необходимость со стороны государства признавать внутренние распоряжения и узаконения церкви, а также высказывалось требование, чтобы государственные законы, касающиеся церкви, не издавались без согласования с нею. Одиннадцатый пункт предполагал, что государство обязано защищать церковные святыни и священнослужителей от осквернения и оскорбления. Далее говорилось, что церковь не готова отказаться от темы духовного просвещения и воспитания детей и молодежи – восемнадцатый и девятнадцатый пункты предполагали помощь со стороны государства образовательным учреждениям, созданным церковью, а также сохранение предмета «Закон Божий» в обязательной образовательной программе. В двадцатом и двадцать первом пунктах определялась деятельность церкви в армейских институтах. В пунктах с двадцать второго по двадцать пятый пояснялось, как члены Поместного собора видят юридические и экономические основы взаимодействия между церковными «установлениями» (в контексте документа – учреждениями) и государственными институтами. Контекст документа обращал его к единственно легитимной форме власти на тот момент – Учредительному собранию – и совершенно не считался со стремительно развивающимися событиями по узурпации государственной власти большевиками. Конечно, большевистское правительство и не собиралось обращать серьезного внимания на этот документ, созданный странной структурой из «попов и царских прихлебаев».
Уже 6 января 1918 г. Учредительное собрание будет разогнано, а 2 февраля 1918 г. Совет народных комиссаров примет Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», ставший на 70 лет основой государственной политики в отношении религиозных организаций России. Декрет был подготовлен петроградским священником М. Галкиным [6]. После его опубликования стало понятным, что в проекте нового социалистического государства для церкви места нет. Ожиданиям Поместного собора не суждено было сбыться.
Декрет лишил церковь функций в государственном аппарате и вывел из сферы образования, а все имущество, принадлежавшее религиозным организациям, было национализировано.
Еще в начале декабря 1917 г. по инициативе Совета народных комиссаров была создана специальная комиссия, которая занялась разработкой Декрета об отделении церкви от государства. В конце месяца, когда проект декрета был опубликован, митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) предостерег большевистское руководство от принятия документа в таком виде. Он писал: «Осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу… Считаю своим нрав- ственным долгом сказать людям, стоящим в настоящее время у власти, чтобы они не приводили в исполнение предполагаемого проекта об отобрании церковного достоя-ния»11. Возникала угроза распада религиозного единства, выступавшего в качестве благоприятного условия для интеграции в русскую жизнь и других народностей Российской империи [8, с. 118].
Документ радикально демаркировал церковно-государственные отношения, ни о каком конвенционализме уже не могло идти и речи. Единственно возможная позиция государства по отношению к религиозным учреждениям – жестко сепаратистская, отделительная. Так, в ст. 1 провозглашалось: «Церковь отделяется от государства». Заметим, что даже в законе Франции от 9 декабря 1905 г., который, возможно, являлся для большевистского руководства образцом для подражания, такого радикального отделения не провозглашалось.
Далее в документе последовательно подчеркивалось, что в государственных и общественных учреждениях отменяются религиозные обряды и церемонии. Властям предписывалось допускать свободу исполнения религиозных обрядов только в том случае, если они не нарушали общественный порядок. Иными словами, категория «общественного порядка» стала доминировать в дихотомии «исполнение религиозного обряда» – «общественный порядок». Декрет отменял религиозную клятву в государственных и общественных учреждениях и заменял ее торжественным общенародным обещанием.
Задумки членов Поместного собора о возможности сохранения учебного курса «Закона Божия» были развеяны в прах девятой статьей Декларации, которая запрещала
«преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы». Оговаривалось, что «граждане могут обучать и обучаться религии частным образом»12, но это не спасало ситуацию в целом. Документ устанавливал, что церковь не только не сможет получать какие-либо привилегии перед другими религиозными организациями, но, лишаясь государственных субсидий и помощи местных органов власти, переводится в разряд «частных обществ и союзов» без прав юридического лица. Неслыханное унижение! Фактически объявление церкви и любой ее структуры вне закона – вот что читалось сквозь скупые строки декларации. Современный социальный философ Х. Йоас такое отношение государства к церкви называет «коммунистической принудительной секуляризацией, которая являла собой пример политики насильственной маргинализации религии, а также навязывания секуляризма, т. е. нерелигиозных взглядов [12]. Итак, новое социалистическое государство с первых дней советской власти не просто выбрало сепаратистскую модель государственно-церковных отношений, оно заняло открыто враждебную, антиклерикальную позицию. Был взят курс на уничтожение церкви как общественного института и истребление священства как враждебного класса. Секуляризм, по словам российского философа А. Щипкова, представляет угрозу современному миру, ибо в период господства секуляризма «человечество пережило несколько кровавых революций, две мировые войны» [10], что актуально и для России. Очевидно, что традиционная религия, базовые религиозные ценности так и не были вытеснены экспансией секуляриз- ма из системы культуры, что свидетельствует о кризисе секуляристских доктрин.
Заключение
Русский народ ценит церковь по двум причинам. Во-первых, она обеспечивает ему реализацию принципа соборности в служении Господу (отсюда – соборность как духовное единство членов церкви). Во-вторых, она не нарушает, а, наоборот, поддерживает обрядовые традиции русской культуры, сохранившиеся со времен языческой Руси. В ХХ столетии русские православные люди не отвергли хода истории с ее бурными вихрями. Время современности не смогло подчинить их. Опираясь на при- сущий русскому религиозному человеку более привычный исторический и религиозный опыт, выбор был сделан в пользу времени литургии.
Освобождение от радикального понимания секуляризма как наследия атеистического прошлого – значимая задача как для верующих, так и для неверующих исследователей, ищущих гармоничные подходы в построении солидарного и справедливого российского общества. При этом необходимо использовать опыт понимания современных процессов секуляризации, десекуляризации и постсекуляризма, характерные для современной Центральной и Западной Европы.
Список литературы Цезаропапизм и секуляризм в византийской и русской традиции
- Гайда Ф. Февральская революция. Почему церковь поддержала Временное правительство [Электронный ресурс]. – М., 2013. – URL: https://pravoslavie.ru/59859.html.
- Гараджа В. И. Вебер [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия / сост.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». – М., 2014. – URL: http://religion.niv.ru/ doc/encyclopedia/orthodox/articles/1351/veber.htm.
- Елдин М. А. Византийская константа духовных традиций российского и финно-угорского типа культур и современность // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2013. – № 4 (24). – С. 34–44.
- Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем : в 12 т. Т. 7. Кн. 1 : Публицистика 1862–1879 годов. – СПб. : Владимир Даль, 2005. – 560 с.
- Рокуччи А. Размышления о пост-секулярном обществе и о секуляризации в истории России в новейшее время // ЧЕЛОВЕК.RU. – 2012. – № 8. – С. 94–99.
- Скрыльников п. Как церковь отлучали от управления государством. Большевистский антиклерикальный декрет подготовил священник [Электронный ресурс] // НГ-Религии. – 2018. – 17 января. – URL: https://www.ng.ru/ng_religii/2018-01-17/13_435_dekret.html.
- Смолич И. К. Русское монашество, 988–1917. – М. : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1997. – 607 с.
- Цыплаков Д. А. «Культурный код» и секуляризация в России // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2016. – № 1 (49). – С. 116–121.
- Шахов М. Объединения религиозного характера в современной Франции [Электронный ресурс]. – М., 2017 / Московская Сретенская духовная семинария. – URL: http://sdsmp.ru/news/ n3456/.
- Щипков А. Религиозность и кризис идеологии секуляризма. [Электронный ресурс]. – М., 2016 / Всемирный русский народный собор. – URL: https://vrns.ru/analytics/4182.
- Habermas J. Glauben und Wissen. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001. – 57 s.
- Joas H. Wellen der Säkularisierung // Kühnlein M., Lutz-Bachmann M. Unerfüllte Moderne?: Neue Perspektiven auf das Werk von Charles Taylor. – Frankfurt am Main, 2011. – S. 716–729.