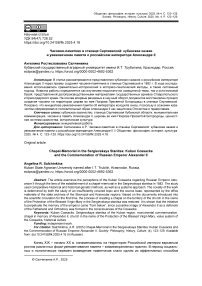Часовня-памятник в станице Сергиевской: кубанские казаки и увековечение памяти о российском императоре Александре II
Автор: Салчинкина А.Р.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются представления кубанских казаков о российском императоре Александре II через призму создания часовни-памятника в станице Сергиевской в 1882 г. В ходе исследования использовались сравнительно-исторический и историко-генетический методы, а также системный подход. Новизна работы определяется как изучением недостаточно освещенной темы, так и источниковой базой, представленной делопроизводственными материалами государственных архивов Ставропольского и Краснодарского краев. На основе впервые вводимых в научный оборот документов восстановлен процесс создания часовни на территории церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы в станице Сергиевской. Показано, что инициатива увековечения памяти об императоре исходила снизу, поскольку в сознании казачества сформировался положительный образ Александра II как защитника Отечества и православия.
Кубанское казачество, станица сергиевская кубанской области, монументальная коммеморация, часовня в память александра ii, церковь во имя покрова пресвятой богородицы, ценностная система казачества, историческая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149148128
IDR: 149148128 | УДК: 94(47):726.52 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.16
Текст научной статьи Часовня-памятник в станице Сергиевской: кубанские казаки и увековечение памяти о российском императоре Александре II
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia, ,
навигации в прошлом, поскольку монументальные формы позволяли облечь исторические события и персоналий в зримые образы, транслируя тем самым определенные ценности и идеалы различным социальным группам и обществу в целом. Подобные практики, являясь неотъемлемой частью формирования исторической культуры, заинтересовали современных исследователей. В центре внимания ученых оказались способы интерпретации исторических событий и механизмы их передачи через создание архитектурных и скульптурных объектов. В отечественной историографии полно изучены истоки и эволюция российской монументальной традиции в целом (Государственная монументальная политика…, 2022; Еремеева, 2012, 2015; Кириченко, 2001; Свято-славский, 2013). Однако коммеморативные практики кубанского казачества, рассмотренные сквозь призму концепции исторической культуры, пока остаются недостаточно изученной областью. В то же время в рамках исследования особый интерес представляют работы историков О.В. Матвеева (2009), Т.А. Колосовской и Д.С. Ткаченко (Колосовская, Ткаченко, 2020; Ткаченко, 2017).
Настоящее исследование, носящее исторический характер, опирается прежде всего на исторические методы анализа. Использование сравнительно-исторического метода позволило систематизировать и свести воедино данные из разнородных исторических документов (архивных документов, периодической печати, поэтических произведений). Применение историко-генетического метода дало возможность рассмотреть процесс создания часовни в память Александра II в станице Сергиевской с учетом исторического контекста. Системный подход в изучении мемориальных объектов казачества позволяет более глубоко понять их значение в контексте политики Российской империи, особенно на пересечении исторической памяти, ключевых ценностных ориентиров кубанского казачества и идеологической легитимации власти.
Царствование Александра II ознаменовалось масштабными преобразованиями, получившими название «Великие реформы». Хотя не все задуманные изменения были полностью воплощены в жизнь, сами попытки реформирования государства оказали огромное влияние на Россию и были восприняты большинством населения как кардинальный перелом. Благодаря отмене крепостного права и победе в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Александр II стал известен как Освободитель. В то время как для большей части России крестьянская реформа стала ключевым событием в его правлении, для кубанских казаков на первым план выходил военный конфликт с Турцией, в котором они принимали непосредственное участие. В представлении воинства, для которого главной мотивацией служения была защита православной веры, эта война виделась как освобождение христианских народов от турецкого владычества, а пятимесячное пребывание императора за Дунаем расценивалось как настоящий подвиг. В итоге в казачьем сознании прочно закрепился образ Александра II как Царя-освободителя, защищающего единоверцев – балканских славян от османского ига. Как пелось в казачьей песне, записанной действительным членом Кубанского областного статистического комитета А.С. Поповым со слов певца-торбаниста: «Батюшка наш, Государь, / Ты лишился своих ног, / Свою кровь за то пролил, / Что всю чернь освободил, / Христиан всех отобрал и свободу всем им дал»1.
Песня была посвящена трагедии, которая потрясла всю Россию: 1 марта 1881 г. на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге был смертельно ранен император Александр II. Новости быстро распространились по всей территории империи, включая далекую Кубанскую область. Подробности трагедии, изначально окутанные слухами, постепенно прояснялись благодаря периодической печати. В местной газете «Кубанские областные ведомости» были опубликованы телеграммы, полученные начальником Кубанской области, генерал-лейтенантом Н.Н. Кармалиным от наместника на Кавказе, великого князя Михаила Николаевича. В них содержались известия от министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова о кончине государя, а также распоряжения отслужить во всех частях войск панихиды об упокоении души почившего императора и привести все население к присяге на верность подданства Александру III2. Публиковались и детальные подробности «катастрофы 1-го марта», перепечатанные из столичных газет – «Московского телеграфа» и «Московских ведомостей»3. Из них стало известно о ранении казаков лейб-гвардии Терского эскадрона и их командира, ротмистра П. Кулебякина, а также унтер-офицера лейб-гвардии 2-го Кубанского эскадрона К. Мачнева, сопровождавших императора в составе конвоя. О последнем местная кубанская газета писала, в его лице «кубанцы видели великомилостивое к себе доверие и любовь обожаемого Царя-Освободителя»4. В очерке Собственного Его Императорского Величества конвоя, составленном его адъютантом С.И. Петиным, детально описывались события «дерзкого посягательства на Священную жизнь Его Величества» и день проводов «горячо любимого Монарха в последнее пристанище»1. В благодарность за верную службу Александру II на протяжении четверти века конвойцы получили право ношения «вензелевого изображения в Бозе почившего Государя»: офицеры – на эполетах и погонах, нижние чины – на плечевых шнурах мундиров2.
Позже в среде казаков-конвойцев появилась песня, записанная учителем Ардонского станичного училища А. Гусевым: «Убит Император. Весть эта, / Как гром, пронеслась над землей; / Как гром, поразила полсвета / Своею ужасной грозой… За что же наш царь православный, / За что же он так пострадал? / За то ли, что славу Отечеству дал?»3. Схожий текст песни зафиксировал и А.Д. Ламанов, который собирал материал по истории 1-го Кавказского наместника Ека-теринославского, генерал-фельдмаршала, князя Потемкина-Таврического полка Кубанского казачьего войска. Несмотря на некоторые расхождения в содержании (например, вместо конвойцев у А.Д. Ламанова упоминаются солдаты, которые «живого сберечь не сумели, / так мертвого хоть берегут»), главная идея, проходившая через оба произведения, – это потрясение от того, что «Царь русский в России убитый / Рукою же русских людей»4.
Память об Александре II оставила значительный след в отечественной истории, особенно ярко проявившийся в обширной сети памятников, установленных по всей России. В период с 1885 по 1916 г. количество памятников, посвященных этому императору, превысило число всех остальных монументов империи. Лидирующими регионами, где Александр II стал основным объектом монументальной памяти, были Оренбургская, Нижегородская, Пермская и Черниговская губернии5. Пик мемориализации образа императора пришелся на 1911 г., когда Россия отмечала 50 лет со дня отмены крепостного права6. Идея увековечивания памяти Александра II находила поддержку и у кубанских казаков, поскольку для них император был гарантом порядка, хранителем традиций и поборником православной веры. Они принимали участие в общероссийских проектах, для которых открывалась подписка для сбора добровольных пожертвований денежных средств. Так, кубанские казаки внесли финансовый вклад в возведение масштабного памятника Александру II в Московском Кремле7, а в 1898 г. участвовали в его торжественном открытии и освящении8. Корреспондент газеты «Кавказ», присутствовавший на мероприятии, отмечал, что все были «поражены красотой памятника, строгостью стиля, гармоничной простотой»9.
Участие казаков в установке памятников императору происходило и на региональном уровне. 13 июня 1882 г. на общественном сходе станицы Сергиевской Кубанской области станичный атаман А.В. Алексеенко представил проект памятника «В Бозе почившему Царю мученику Александру II»10. Сход, на котором присутствовало более двух третей членов Сергиевского общества, имеющих право голоса, постановил: «1. Соорудить памятник, чтобы он во всякое время напоминал каждому злодеяние, совершенное 1-го марта 1881 года, над помазанником Божием. 2. Памятник должен быть на таком месте, где чаще всего собираются жители, а для сего мы определили место близ церкви с лицевой стороны 3. Чтобы память переходила из потомства в потомство, чтобы наши правнуки помнили благодеяния Царя мученика Александра II, то сделать часовню; более прочную и лучшей архитектуры, деревянную. <…> 10. Ежегодно 1-го марта в часовне отправлять панихиду по Царю мученику»1. Предполагалось установить икону Св. Александра Невского, перед которой должна была теплиться неугасаемая лампада. Составлены были и надписи: для внешней правой стороны часовни, где планировалось расположить фотографический снимок покойного императора, – «Варвар-злодей! Взгляни на мученика» и «Бойся, сын мой, Господа и Царя, с мятежниками не общайся»; для иконы – «В память Царя мученика и миротворца Александра II, павшего мертвым от руки злодея. От Кубанских казаков, жителей станицы Сергиевской, Екатеринодарского уезда»2. Общественный приговор был направлен станичному священнику церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы А. Островскому с вопросом о возможности иметь снаружи памятника портрет императора. Тот, в свою очередь, направил за разрешением к благочинному 2-го благочиннического округа Кубанской области Ставропольской епархии, священнику А. Тихомирову3. Ответ от последнего пришлось ждать 3 недели. Письмо, написанное 7 июля, было получено Сергиевским станичным правлением 12 числа. В нем А. Тихомиров отметил, что «Истинно-Христианская и Глубоко-патриотическая мысль увековечить память о Великом Миротворце Государе Императоре Александре II, невинно пострадавшем от злодейской руки 1-го марта 1881 года, привлекает благоговейное сочувствие всякого Русского-по-данного»4. Но при этом благочинный посоветовал увеличить памятник и установить его внутри храма. Денег на столь масштабное строительство у станичного правления не было, поэтому А. Тихомирова повторно попросили дать разрешение на строительство скромной деревянной часовни на Церковной площади. Ссылаясь на несоблюдение узаконенного порядка организации такого мероприятия, благочинный отказался давать свое согласие. В итоге из Кубанской области в Ставрополь полетели рапорты, адресованные епископу Кавказскому и Екатеринодарскому Герману. 7 октября 1882 г. станичный атаман А.В. Алексеенко докладывал: «горя́ неотложным желанием скорей соорудить увековечивающий памятник» при Покровской церкви в углу ограды с лицевой стороны, общество Сергиевской собрало деньги за счет добровольных пожертвований и из станичных общественных сумм, приобрело необходимый материал и нашло подрядчика. Но получив «несочувствие» от благочинного 2-го благочиннического округа, атаман просил архипастырского разрешения и благословения на сооружение задуманного памятника5. 30 октября 1882 г. А. Тихомиров сообщил епископу Герману, что, нарушив установленные правила, 12 октября Сергиевское станичное правление самовольно приступило к сооружению часовни. При этом работы велись простыми плотниками без надзора техника6.
Обстановка не разрядилась даже после того, как 27 октября 1882 г. император Александр III, выслушав доклад министра внутренних дел Д.А. Толстого, повелел благодарить жителей Сергиевской за инициативу построить часовню в память о его отце7. Высочайшая воля была передана через главное управление Кавказской администрации начальнику Кубанской области С.А. Шереметеву. Он, в свою очередь, 8 ноября препроводил предписание Сергиевскому станичному правлению для объявления его содержания на полном сходе станичного общества. Получив 20 ноября предписание от С.А. Шереметева, станичный атаман через неделю отправил его копию в Кавказскую духовную консисторию, сообщая, что часовня в память Царя-мученика уже построена8.
Свой рапорт в консисторию отправил и благочинный А. Тихомиров. Он сообщал, что разрешение на постройку часовни дал начальник Екатеринодарского уезда. Рисунок, подготовленный шурином отставного войскового старшины Кубанского казачьего войска А. Соляника-Красса, был получен Сергиевским обществом только после закладки фундамента. При этом фасад сооруженной часовни не соответствовал этому рисунку: имеющаяся постройка была деревянной на кирпичном фундаменте без каких-либо архитектурных украшений, на железной крыше виднелся купол с крестом. Работа по строительству часовни шириной и длиной по 4 аршина, высотой – 5,5 аршина обошлась в 800 р. серебром. А. Тихомиров утверждал, что «заправители» станичного общества, «упорно игнорируя Пастырский совет, своевременно предложенный им для скорейшего осуществления благого намерения мирского, умышленно обошли легальный путь; и тем самым высказали явное пренебрежение к Епархиальному начальству, в руках коего сосредоточено Церковное делостроительство»9.
В феврале 1883 г. атаман и доверенные от общества станицы Сергиевской пригласили для осмотра часовни-памятника производителя работ в Строительном отделении Кубанского областного правления, архитектора И.С. Хлебникова. Из составленного акта следует, что часовня была «построена согласно утвержденного чертежа правильно, прочно и из материалов хорошего ка-чества»1. Прилагался и ее проект, рассмотренный и одобренный Строительным отделением Кубанского областного правления по протоколу от 7 февраля 1883 г. за № 39 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проект деревянной часовни в память царя-мученика Александра II, предполагаемой к постройке в станице Сергиевской Екатеринодарского уезда Кубанской области2
Figure 1 – The Project of a Wooden Chapel in Memory of Tsar-Martyr Alexander II, Proposed to be Built in the Sergievskaya Stanitsa, Yekaterinodar Uyezd, Kuban Oblast
В дальнейшем станичное правление во главе с атаманом должно было отвечать за поддержание порядка и чистоты в часовне, а ремонт постройки должен был производиться за счет средств Сергиевского станичного общества. В 1898 г. в связи с ветхостью церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы была разобрана, на ее месте была построена новая, тоже деревянная. Согласно сведениям священника Н.Т. Михайлова, 14 апреля 1908 г. она сгорела «от неизвестной при-чины»3. Вероятно, часовню-памятник постигла такая же участь.
Таким образом, несмотря на бюрократические препоны и осторожность со стороны епархиального центра, казаки станицы Сергиевской Кубанской области по собственной инициативе и на собственные средства смогли установить часовню на территории местной Покровской церкви, тем самым увековечив память об Александре II. Такое упорство в реализации решения станичного схода во многом было обусловлено ценностной системой казачества, в которой император воспринимался как государственный символ, олицетворяющий национальную и религиозную идентичность и, следовательно, заслуживающий сохранения памяти о себе. Также большую роль сыграло положительное отношение казаков к тем деяниям, которые совершил этот монарх. В глазах казачества, видевшего свою высшую миссию в защите православной веры, Александр II представал заступником и освободителем христианских славян на Балканах.
Список литературы Часовня-памятник в станице Сергиевской: кубанские казаки и увековечение памяти о российском императоре Александре II
- Государственная монументальная политика: опыт, противоречия, перспективы: монография / под ред. А.Н. Еремеевой. М., 2022. 168 с.
- Еремеева С.А. Каменные гости: монументальные памятники коммеморации // Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / под ред. А.Н. Дмитриева. М., 2012. С. 499-532. EDN: XGNVBF
- Еремеева С.А. Памяти памятников. Практика монументальной коммеморации в России XIX - начала XX в. М., 2015. 531 с.
- Кириченко Е.И. Запечатленная история России. Монументы XVIII - начала XX в.: в 2 кн. М., 2001. Кн. 1: Архитектурный памятник. 352 с.; Кн. 2: Архитектурные ансамбли и скульптурный памятник. 384 с.
- Колосовская Т.А., Ткаченко Д.С. Имперская политика памяти на Кавказе: механизмы конструирования массового исторического сознания (XIX - начало ХХ в.) // Новый исторический вестник. 2020. № 2. С. 131-154. DOI: 10.24411/2072-9286-2020-00014 EDN: BTLEIW
- Матвеев О.В. Государь реальный и ожидаемый: образ Александра II в исторических представлениях кубанских казаков // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2009. № 1. С. 5-12.
- Святославский А.В. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов. М., 2013. 592 с. EDN: RESILV
- Ткаченко Д.С. Российские историко-культурные памятники на Северном Кавказе в XIX - начале ХХ в. Ставрополь, 2017. 320 с. EDN: BHOWTL