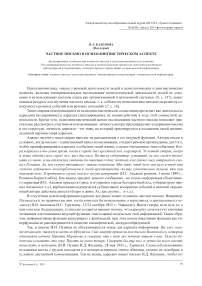Частное письмо в психолингвистическом аспекте
Автор: Каленова Наталья Алексеевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (40), 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются особенности частного письма в психолингвистическом аспекте. Рассматривается роль частного письма в психологических процессах личности участников эпистолярной коммуникации, а также процесс трансляции эмоциональной информации.
Частное письмо, психолингвистика, эпистолярная коммуникация, эмоциональная информация
Короткий адрес: https://sciup.org/14822332
IDR: 14822332
Текст научной статьи Частное письмо в психолингвистическом аспекте
Эпистолярная коммуникация в ее психолингвистическом осмыслении предстает как деятельность адресанта (кодирование) и адресата (декодирование), их взаимодействие в ходе этой совместной деятельности. Кроме того, психолингвистический аспект исследования частного письма позволяет пристальнее рассмотреть участников коммуникации: личность автора предопределяет содержание письма и его структуру, личность адресата – тот маяк, на который ориентируется в изложении своей индивидуальной картины мира адресант.
Анализ частного эпистолярия наводит на размышления о его ведущей функции. Авторы писем в условиях, когда письмо – единственный канал коммуникации, создают речевое произведение для того, чтобы проинформировать адресата о событиях своей жизни, о своем отношении к этим событиям: Вчера я приехал в то самое время, когда в городе был крестный ход, и архиерей, 70-летний старик, бодро и живо обходил весь город, т.е. шел два часа. Поэтому губернатор, уставший, не мог свежо толковать со мною, и мы отложили свидание до нынешнего дня; поэтому я не ближе часу отправлюсь снова в Романов. Ах, как скучно нянчиться с этими господами. Мне надо, чтоб дело мое шло и чтоб эти господа оставались неоскорбленными в своей щекотливости, да еще самодовольно думали, что они двигают дело. В противном случае они все могут испортить (И.С. Аксаков родным, 5 июня 1849 г., Романов-Борисоглебск). Как видим, предмет данного сообщения – не только информация объективного характера (И.С. Аксаков приехал в город, в это время в городе был крестный ход, губернатор не принял Аксакова и т.д.), вербализации подвергается субъективное восприятие событий и явлений окружающей автора действительности (бодро и живо; Ах, как скучно… и т.д.).
В отсутствии новой информации адресант все равно может создавать частное письмо. Например: Расписался я, но приятно писать, когда хотелось бы потолковать, и поругаться, и приласкаться к человеку (П.В. Анненков И.С. Тургеневу, 12/24 октября 1852 г., Чирьково). Иначе говоря, если есть то, о чем хотелось бы рассказать, то письмо создается именно потому, что адресанту хочется (это ключевая мотивация для понимания ведущей функции эпистолярия) поделиться этой информацией. Таким образом, информативная функция конкурирует с фатической, при этом коммуникативная функция как гиперфункция не рассматривается в качестве специфической, дискурсообразующей.
Так, в письме И.И. Пущина не объективируется новая для адресата информация: Вы уже знаете печальную, тяжелую весть из Иркутска. Сию минуту принесли мне письмо Волконского, который описывает кончину Никиты Муравьева и говорит, что с тою же почтою пишет к вам. Тяжело будет вам услышать это горе. Писать не умею теперь. Говорить бы еще мог, а лучше бы всего вместе помолчать и подумать (И.И. Пущин И.Д. Якушину, 28 мая 1943 г., Туринск). Слова соболезнования, поддержки всегда с трудом находятся и в непосредственном, очном общении, сложно их подобрать в условиях дистантной коммуникации. Тем не менее, адресант пишет письмо И.Д. Якушину, чтобы тот почувствовал плечо своего соратника в трудную минуту. Обратим внимание, что письмо с новостью о кончине Никиты Муравьева принесли «сию минуту», т. е. Пущин, получив известие, тут же принялся за письмо И.Д. Якушину.
Информация делового характера в частном письме, в отличие от письма частно / неофициально-делового или официально-делового, как правило, объективируется эмоционально, что выражается в выборе языковых средств: Отвечаю тебе, дорогой друг, на письмо от 7 сентября , – пишет брату Н.А. Серно-Соловьевич (В.А. Серно-Соловьевичу, 8 сентября 1862 г., Петропавловская крепость, Алексеевский равелин). Далее он скрупулезно отвечает на все вопросы, заданные Владимиром Александровичем, придерживаясь четкой структуры, оформленной пронумерованным списком. При этом объективация этой информации сопровождается использованием средств, уместных в частном письме как письменной форме разговорного стиля: А самое главное, чтоб дворник держал ухо востро! , возможно включение ненормативных средств, как например, в цитируемом письме В.А. Серно-Со-ловьевича.
Психолингвистическое осмысление природы частной эпистолярной коммуникации наталкивает на размышления о роли частного письма в психических и психологических процессах личности. Письмо выполняет, как считают специалисты, психотерапевтическую функцию: Написание письма – чрезвычайно полезная процедура. Да-да, я не ошиблась, воспользовавшись медицинским термином. Именно «процедура». Она сродни самостоятельной психотерапии, осуществляя которую, мы имеем возможность разобраться во многих вопросах нашей жизни . Психотерапевтическая функция заключается в том, что в процессе его написания человек осуществляет саморефлексию, выстраивает цепь произошедших событий по психологической значимости (в системе координат адресанта и/или адресата): Милый, милый мой Муничка, я не пишу оттого, что плохо, оттого, что устал, и еще – черт знает от чего. Я не хочу сказать, что мне хуже, чем тебе, но когда плохо, так уж все равно, в какой степени. Ей-Богу, человек создан вовсе не для плохого! (В.Ф. Ходасевич С.В. Киссину, 9 августа 1915 г., Москва). Автор в осмыслении своего состояния ориентируется не только на свой внутренний микрокосм, а включает в систему координат и состояние адресата.
Самоанализ позволяет осознать природу своего состояния: Вот уже 2 1/2 месяца как и физически и духовно – я вне себя. Физически – все время хвораю, даже уходила со службы (не служила весь Ноябрь и Декабрь, а теперь опять тяну лямку). Душевное же состояние не могу лучше определить, как тютчевской строкой «Пройдет ли обморок духовный » (С.Я. Парнок Е.К. Герцык, 26 января 1923 г., Москва). В осмыслении своего состояния автор письма определяет его фразеологической единицей вне себя с неприсущей ей смысловой структурой, соответствующей, скорее, фразеологическим единицам не в своей тарелке , сам не свой . Автор дифференцирует уровни, составляющие это осмысляемое состояние (физический и духовный) для каждого находя образное средство: фразеологическую единицу тяну лямку и цитату стихотворения Ф.И. Тютчева. Цитата оказывается мощным средством объективации эмоционального состояния благодаря дискурсивному фону, который шлейфом тянется в сознании носителя лингвокультуры и за именем Ф.И. Тютчева, и за самой строчкой, которая репрезентирует стихотворение в целом, его эмоциональный настрой.
Частное письмо в аспекте рассмотрения его с позиций психолингвистики предстает универсальным средством развития речи и логического мышления: Даже в школах не обходится без заданий по составлению писем. Именно такой подход учит пониманию логики повествования, объясняет основы вежливости, дает возможность научиться делать свой рассказ плавным, без резкого перескакивания с одной темы на другую. Ведь часто устное общение наполнено лишними деталями, «паразитами», междометиями, которым в письменной речи нет места. Деловые письма оттачивают четкость повествования, личные – учат пользоваться эпитетами и аллегориями, многочисленными сравнениями и метафорами . В связи с этим невольно возникает предположение, что одна из причин снижения уровня речевой, в том числе и письменной, культуры современного носителя языка – исчезновение частного письма из его коммуникативной практики.
В условиях, когда письмо – единственный канал коммуникации, то есть потребность в общении не может быть реализована иным способом, написание письма (имеется ввиду процесс) провоцируется мощной естественной мотивацией. При отсутствии необходимости такая мотивация не формируется. Задания на развитие речи не мотивируют так, как внутренняя потребность в общении при отсутствии иных каналов коммуникации.
Мы не замечаем огромной опасности деградации молодежи вследствие перехода к иконическо-му письму, к комиксам и фильмам вместо чтения книг. Вы полагаете, это не принципиально – заменить текст знаками-«иконками» в компьютере, символами на пультах управления бытовыми приборами и техническими средствами? Зачем изъясняться в чувствах в переписке, если можно все заменить символами – сердечками и «смайликами»? Какая разница, рассматривать комиксы или читать книги, информация то будет донесена? Разница «всего лишь» в том, что преобладать будет аналоговое мышление! Свинью или медведя тоже можно научить нажимать лапой на определенный рычаг, где изображен некий символ. Люди быстро деградируют до уровня свиней <…>, если перестанут читать и думать [2, с. 248–249].
Частное письмо фиксирует информацию об эмоциональном состоянии адресанта: Я очень расстроен Володиным письмом, мама. Оттого и вам пишу такое нервное, а ему написал два, да порвал. Плохо зачеркивает он фразы нечаянно написанные, но которых он не хочет дать прочесть. Одна такая фраза и ударила меня в самое сердце. Написал ему два письма, да оба порвал и долго буду собираться писать (В.М. Гаршин Е.С. Гаршиной, 11 марта 1882 г., Ефимовка). В данном фрагменте интересно не только «называние», «проговаривание» своего эмоционального состояния, но и указание на то, что спровоцировало его. Лексемы расстроен , нервно, ударила в сердце объективируют проявление эмоций, вызванных прочтением фразы, которая была зачеркнута. Володя, автор вызвавшего эмоции послания, не воспользовался возможностью переписать письмо, исключив нежелательные фразы, что может свидетельствовать о том, что либо он не рассчитывал, что адресат послания придаст такое значение зачеркнутым фразам, либо, наоборот, рассчитывал, что адресат сумеет декодировать сообщение, закодированное таким сложным способом, либо не задумался вообще о том, какой эффект может произвести зачеркнутая фраза.
Эффективность трансляции эмоциональной информации зависит от многих факторов, но проявляется в той реакции, которую адресат послания испытывает: Получила Ваше ответное письмо и почувствовала, что Вы всей душою с Машенькой и, значит, со мною. Это меня очень поддерживает (С.Я. Парнок Е.К. Герцык, 5 февраля 1925 г., Москва). В данном фрагменте письма важно то, что его автор объективирует свою эмоциональную реакцию: она «почувствовала», она объективирует результат декодирования сообщения, что наблюдается в письмах не всегда.
Подытожим: психотерапевтический эффект частного письма направлен на адресанта: «Глубинная психология человека, равно как и дискурсивные резервы письма таковы, что разговор с «другим» скорее предоставляет возможность еще раз оказаться наедине с самим собой и разрешить в письменной эпистолярно-адресной форме возникшие (а порой еще и не вполне осознанные) сомнения, и уже в самом процессе письма попытаться их разрешить» [9, с. 85].
Но письмо также имеет психологическое воздействие на адресата: Посылаю письмо Машеньки к Любови Александровне. Очевидно, она (Машенька) возлагала большие надежды на письмо Любови Алекс<андровны> – может быть даже это была единственная ее надежда. Получив его, она сказала: И это – не то. И Люба стала не та». Я читала это письмо; оно очень сдержанное. Если можно, напишите ей погорячее, Любовь Александровна. Вы – единственный человек, за которого она сейчас цепляется в своем поистине безысходном состоянии. И ты, Женечка, напиши ей, чтобы она чувствовала, что все Вы любите ее и верите в нее (С.Я. Парнок Е.К. Герцык, 13 марта 1925 г., Москва). Та же мысль развивается в комментариях к цитируемой ранее статье: Елена Реальная, 12 января 2012 г. 14.55: Вы знаете, этой весной я с семьей переезжала и во время сбора вещей наткнулась на коробку с письмами. Эти письма мы с мужем писали друг другу в периоды разлук еще до того, как пожени- лись. Не передать, что я испытала от прочтения этих писем. Ведь многое из того далекого прошлого уже забылось и затерлось... И тут такой подарок – как будто старое кино про себя в молодости увидела. В общем, писать письма близким и дорогим людям – это здорово!» archive/0/n-51565/) Адресат испытывает комплекс эмоциональных состояний, которые она пытается объективировать в данном сообщении лексемами подарок, здорово.
Письма , – пишет другой практикующий семейный психолог, – как живая память, а если они от особенно близкого тебе человека, конечно, ты захочешь их сохранить <…> Хорошие, добрые письма, написанные от души, обладают какой-то особой магией. Когда у тебя плохое настроение, стоит достать из укромного местечка пару-тройку таких писем и прочитать их, и тогда радостная улыбка целый день не покинет твоего лица . Ассоциативно, тонкими нитями психологической памяти письмо, предмет реального мира, вызывает в сознании читающего то состояние, которое он испытывал тогда, читая это письмо. Может быть актуализирована в памяти и информация о том состоянии, которое было в период написания этого письма в целом (молодость, женитьба, дружеские отношения и т.д.).
Итак, воздействие частного письма на личность происходит разнонаправленно:
-
1. Процесс написания письма – возможность осмыслить события реальной действительности в координатах своих мировоззренческих, психологических установок, а также в координатах установок адресата, то есть уже в процессе написания письма адресант мысленно обращается к адресату, для него акт коммуникации совершается в специфической форме, форме внутреннего диалога с адресатом.
-
2. Адресат, получая письмо, декодирует сообщение, совершая свой внутренний диалог, письмо воздействует на адресата.
-
3. По прошествии времени получатель письма имеет возможность снова обратиться к письму, перечитать его, письмо в этом случае также оказывает воздействие на психологическое состояние адресата.
-
4. Частное письмо может стать достоянием третьих лиц, с одной стороны, раскрывая личность своего автора, с другой стороны, воздействуя на читателя, который декодирует сообщение.
Одно из условий эффективности акта коммуникации, в том числе и эпистолярной, – создание в нем благоприятного психологического климата. Для этого следует учитывать такие потребности адресата, как потребность в самовыражении и достижении понимания, потребность в эмоциональном понимании, потребность в признании личности, что в полной мере учитывают «максимы общения» Грайса. Механизм эмпатии позволяет реализовать потребность партнера по коммуникации в эмоциональном понимании: Вы писали как-то, выражая мысль, что я не сочувствую вашей деятельности. Мое отношение к вашей деятельности особенное. Не могу я не сочувствовать изданиям, которые распространяют те истины, которыми я живу, и еще более тому, что в них передаются те мои мысли и опыты внутренней духовной жизни, которые того стоят, и передаются и отбираются человеком, который мне особенно близок по духу и потому делает это дело наилучшим образом. Но эта вторая сторона дела имеет в себе сторону личного удовлетворения, славы людской, и потому я невольно сдерживаю свое сочувствие к этой стороне вашей деятельности. Пожалуйста, не упрекайте меня ни в лишней скромности, ни гордости, перенеситесь в меня и поймите это (Л.Н. Толстой В.Г. и А.К. Чертковым, 28 февраля 1900 г., Москва). Иначе говоря, адресант, Л.Н. Толстой, участвуя в эпистолярной коммуникации, по тем или иным причинам не учитывает потребность адресата в эмоциональном понимании. Очевидно, адресат в своем ответном письме указывает на это: Вы писали как-то, выражая мысль, что я не сочувствую вашей деятельности . В свою очередь, Л.Н. Толстой представил подробное объяснение, почему он этого не сделал (обратим внимание на тактику восхваления заслуг партнера, лесть: Делает это дело наилучшим образом ), завершив его просьбой к пониманию и сочувствию: Перенеситесь в меня и поймите это .
Таким образом, особый психологический климат частной эпистолярной коммуникации поддерживается на протяжении всей цепочки писем, коммуниканты стремятся сохранить его. Можно сказать, что психотерапевтический эффект частного письма отчасти создается этим особым психологи- ческим климатом. Лингвистические средства создания психологического климата частного письма еще достаточно не изучены, но очевидно, что реализация потребности в самовыражении и достижении понимания; в эмоциональном понимании и в признании личности достигается комплексом языковых средств разных уровней в их взаимодействии.
Трансляция информации в частном письме, «перевод мысли на язык человека» [3, с. 54], в том числе и эмоциональной информации, обеспечивается когнитивно-прагматическими механизмами, обусловленными свойствами и законами речи вообще и корректируемыми параметрами частного письма как речевого произведения. Частным письмом транслируется рациональная и эмоциональная информация. Само письмо, факт получения и процесс чтения письма провоцируют различные эмоции: Ольга, 8 февраля 2012 г.: Да, в наше время будем совсем не лишним проводить курсы по написанию писем. Стало гораздо привычней получать электронные послания типа ”приведмедвед”, ”как сам?” и т.д. Совсем недавно я получила настоящее письмо с поздравительной открыткой от своей далекой подруги, с которой мы периодически общаемся по скайпу. Чувства которые я испытала обнаружив это письмо в почтовом ящике непередаваемы! Как будто частичка этого, дорогого мне человека, оказалась в моих руках. Пишите письма дорогим Вам людям, согревайте их своим теплом, электронная связь, к сожалению не имеет таких возможностей . В этом комментарии к статье, содержащей советы психолога, значимо то, что автор, наш современник, то есть человек, для которого «настоящее» письмо – большая редкость, описывает свое эмоциональное состояние в момент получения письма. Ср.: Я хочу написать вам еще настоящее (не деловое) письмо. Попробую (К.Г. Паустовский Г.А. Арбузовой и В.В. Медведеву 20 сентября 1966 г., Ялта). Частное письмо – «частичка» его автора, оно согревает теплом, как считает Ольга, выражая мнение многих наших современников, когда-то участвовавших в эпистолярной коммуникации.
Эмоциональная информация, транслируемая средствами частного письма, может превалировать над рациональной, и наоборот. Сравним два фрагмента писем одного и того же автора: Ах, Аня, как ненавистны мне всегда были письма! Ну что в письме расскажешь об иных делах? и потому напишу только сухие голые факты: во-первых, я уже тебе писал, что Соне все в тот же день открыл, и как она была рада. Не беспокойся, не забыл передать ей твой поклон, и она тебя уже очень, очень любит (Ф.М. Достоевский А.Г. Сниткиной, 2 января 1887, Москва).
И сравним с фрагментом другого письма Ф.М. Достоевского: Всю дорогу думал о тебе<> Все думал о тебе и воображал, зачем я мою Аню покинул. Всю тебя вспомнил, до последней складочки твоей души и твоего сердца, за все это время с октября месяца начиная и понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела как ты, – я и не стою. Как мог я бросить тебя? Зачем я еду? Куда я еду? Мне бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит; а я (хоть эта мысль беспрерывно и прежде мне втихомолку про себя приходила, особенно когда я молился) – а я такими бесхарактерными, сбитыми с толку вещами, как эта глупая теперешняя поездка моя сюда, – самое тебя могу сбить с толку (Ф.М. Достоевский А.Г. Сниткиной 17 мая 1887, Hombourg). Как видим, в первом фрагменте автор ставит цель отказаться от объективации эмоциональной информации, хотя ему это не совсем удается, о чем свидетельствует использование лексем ненавистны , рада , любит , являющихся номинантами эмоций и состояний.
Второй фрагмент письма полностью посвящен состоянию адресанта, его внутреннему диалогу и с адресатом, и с самим собой. Эмоциональное состояние тревоги объективируется комплексом языковых средств, среди которых особенно отчетливо выделяются риторические вопросы, ряды однородных членов предложения, которыми автор словно подыскивает точное, самое нужное слово для объективации мысли и чувства.
Специфика средств объективации рациональной и эмоциональной информации в частном письме, то есть выявление особенностей кодирования этой информации – важнейший вопрос когнитивного исследования частного письма. Процесс декодирования информации – не менее важная для когнитивной лингвистики проблема. Результаты декодирования информации, закодированной в частном письме, можно обнаружить в ответном письме, где адресат выступает уже в роли адресанта. К большому сожалению, переписка полностью, в которой не утеряно ни одного письма из этого эпистолярного диалога, – большая редкость.
Особенности трансляции информации связаны не только со спецификой определенного дискурса, в психолингвистическом аспекте интерес вызывает и языковая личность адресанта, а также адресата частного письма. Выбор информации, а затем средств для ее кодирования изначально обусловлен языковой личностью, в первую очередь, адресанта и также адресата, так как адресант ориентирован на диалог с ним.
Рассмотрение психологических особенностей адресанта как отправителя сообщения и адресата, осуществляющего декодирование сообщения, на основании анализа имеющегося исследовательского материала обнаруживает различия писем, написанных мужчинами и женщинами. Гендер вызывал бурную научную дискуссию (См. обзоры в [6; 5 и др.]. Даже характер информации, подвергающейся кодированию, в письмах мужчин и женщин, как показывают наблюдения, различен [10].
Наши наблюдения показывают, что, во-первых, женские частные письма опубликованы и, соответственно, доступны для исследования в меньшей степени, чем мужские. Причиной тому является роль женщины в обществе своего времени, степень и характер внимания к женщине как личности. Это не является основанием считать, что женщины меньше писали писем, таких данных нет. Частную жизнь женщины Древней Руси и Московии, например, из-за отсутствия автобиографических и художественных произведений, написанных женщинами, а тем более частных писем, можно воссоздать с большим трудом: «Лишь комплексный, системный подход к летописным, фольклорным, церковноучительным памятникам приоткрывает эту плотную завесу, позволяя приблизиться к пониманию эмоционального мира матерей, «женок» и «дщерей» древнерусских князей и простолюдинов воссоздать некоторые детали их частной жизни» [8, с. 9]. Гендерный аспект частного письма, подчеркнем, еще не стал объектом глубокого научного осмысления, как, например, проявление гендерного фактора в художественном тексте [1 и др.].
Проблема восприятия информации, объективированной средствами языка, – одна из центральных в психолингвистике. Данные о результатах декодирования частного письма могут быть получены в ходе анализа эпистолярия и других источников личного происхождения. Проблема объективности полученных результатов связана с тем, что испытуемые – современные носители языка, а частное письмо как лингвокультурный феномен, доступный для изучения, охватывает период от XVIII и до середины XX в. Восприятие смысла языковой единицы и высказывания в целом обусловлены множеством факторов. Один из них – пресуппозиции, которыми владеют носители языка того или иного поколения.
Следует помнить также, что объективация в той или иной форме – процесс когнитивно обусловленный, то есть те мысли и чувства прошли процедуру осмысления, человек ищет им наиболее подходящую форму выражения. Так, М.В. Меньшикова вспоминает то, что она чувствовала на момент получения и прочтения письма, но вспоминает намного позже, чем это произошло. Сформированы иные пресуппозиции, чем были в момент декодирования информации, уже зная, например, что М.О. Меньшиков, ее муж, расстрелян, эмоционально пережив это событие, она имела возможность осмыслить роль этого фрагмента действительности в ситуации ареста и казни ее мужа в целом. Кроме того, в аспекте кодирования информации важно то, что записывает эти воспоминания не она сама, а другой человек, в частности, Л.И. Веселитская-Микулич.
Подводя итог размышлениям о психолингвистическом аспекте эпистолярной коммуникации, подчеркнем, психологические корни эпистолярия лежат в структуре самой личности, в потребности этой личности в общении. Частное письмо является сложным, многогранным явлением лингвокультуры, а потому разноаспектное изучение его позволит дать ответ на вопрос о его дискурсивной специфике.
Список литературы Частное письмо в психолингвистическом аспекте
- Балакина Л.В. Проявление гендерного фактора в художественном тексте: дис. … канд. филол. наук. Орел, 2005.
- Воробьев-Брусилов В.В. Размышления дилетанта. М.: РУСНЕРУД, 2009.
- Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982.
- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филол. ф-т МГУ, 1996. 245 с.
- Кирова А.Г. Развитие гендерных исследований в лингвистике//Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 8. С. 138-140.
- Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века//Языки наука конца XX века. М., 1995. С. 144-238.
- Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 2003.
- Пушкарева Н. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница. М.: Ладомир, 1997.
- Сапожникова Н.В. Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса: дис.. д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2004.
- Fesenko О.P. On gender notions correlation and individually -author´s style (on material of the friendly letters)//Scientific notes. Vol. 4. Krasnoyarsk. 2006. P. 84-85.