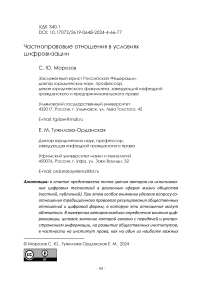Частноправовые отношения в условиях цифровизации
Автор: Морозов С.Ю., Тужилова-орданская Е.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена точка зрения авторов на использование цифровых технологий в различных сферах жизни общества (частной, публичной). При этом особое внимание уделено вопросу соотношения традиционного правового регулирования общественных отношений и цифровой формы, в которую эти отношения могут облекаться. В намерения авторов входило определение влияния цифровизации, целевое значение которой связано с передачей и распространением информации, на развитие общественных институтов, в частности на институт права, как на один из наиболее важных и распространенных инструментов регулирования общественных отношений, и выявление проблем, связанных с этим процессом, а в конечном итоге выяснение вопроса о природе цифрового права. Объектом исследования стали частноправовые отношения, которые возникают между субъектами при совершении самостоятельных действий по реализации принадлежащих им прав и, в силу применения современных цифровых технологий, облечены в цифровую форму. При проведении исследования использовались эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации, а также теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм, методы анализа и синтеза. Результаты исследования убеждают в том, что дальнейшее развитие частно- правовых отношений должно осуществляться с использованием цифровых платформ (цифровых форм), что, однако, не меняет сути данных отношений и не свидетельствует о существовании цифрового права как самостоятельной отрасли в системе российского права.
Цифровизация, частноправовые отношения, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, элементы правоотношения, цифровая платформа
Короткий адрес: https://sciup.org/147246133
IDR: 147246133 | УДК: 340.1 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-4-66-77
Текст научной статьи Частноправовые отношения в условиях цифровизации
Р азвитие информационных технологий, особенно в последние годы, оказывает безусловное влияние на развитие общественных отношений, и потому вполне ожидаема была проблема, с которой столкнулись все общественные институты, а именно проблема цифровизации. Если рассматривать понятие цифровизации в широком смысле, то это процесс внедрения современных средств коммутации и управления, обеспечивающих передачу и распространение информации в цифровом виде.
Цифровизация повсеместно применяется для организации локальных сетевых структур, целевое назначение которых связано с передачей и распространением информации. Одно из ярких технических решений в области цифровизации – сеть Интернет. Ученым, столкнувшимся с использованием сети Интернет для развития общественных институтов, приходилось и приходится разрешать самые разные вопросы. И право, будучи одним из основных
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ инструментов регулирования общественных отношений, столкнулось с данным техническим процессом в первую очередь. К сожалению, использование информационных технологий для регулирования общественных отношений представляет собой довольно сложный и наукоемкий процесс. Сегодня различные отрасли российского законодательства определили или еще продолжают определять, как и где применять данные технологии при регулировании тех или иных правоотношений: административных, гражданских, уголовных (как пример – реформирование гражданского законодательства по вопросам виртуального имущества, цифровых активов и персональной информации пользователя).
В связи с этим возникает ряд серьезных проблем. Во-первых, цифровизация представляет собой целенаправленный процесс перехода от традиционных методов реализации гражданских прав и обязанностей к цифровым. Это должно осуществляться в полном соответствии с установленными стандартами, методами и целями. Между тем на сегодняшний день каких-либо методик и наработок в области принятия общероссийского закона о цифровизации гражданского права и права в целом, в рамках которого должна быть разработана терминологическая база для использования цифровизации при характеристике всех правоотношений, связанных с применением информационных технологий, не существует. Во-вторых, применение современных информационных технологий в гражданских правоотношениях требует наличия у субъектов достаточных правовых и технических знаний. Цифровизация – это высокотехнологический процесс изменения правовой действительности, осуществляемый при помощи новых средств обмена информации, а также изменение вида самой информации. Данные знания, к сожалению, не преподаются в рамках современной системы юридического образования, в связи с чем юристы не имеют не только каких-либо представлений о том, как нужно применять существующие технические решения для развития гражданских правоотношений, но и само́й возможности оценить будущий вектор цифровизации гражданских правоотношений из-за появления новых технологических разработок.
Исходя из этого, можно утверждать, что процесс цифровизации частного права и права в целом идет с существенными затруднениями. Имеется ряд нерешенных правовых проблем, которые госорганы решают исключительно точечно, не создавая комплексной системы общегосударственных стандартов законотворческой и научной деятельности.
И в этих условиях актуализируется вопрос о природе цифрового права. Доктринально цифровое право не может пониматься как отдельная отрасль в системе российского права. Скорее, это цифровая форма частных и публичных цифровых отношений, которая требует новых подходов к их регулированию. Нельзя подменять содержание цифровых отношений их формой. Как справедливо отмечает ряд авторов, «частные цифровые отношения выступают результатом правовой коммуникации (саморегулирования) их участников», а «публичные цифровые отношения являются отношениями не права, а власти и подчинения (властеотношениями)»1. Цифровизация отношений – это одно из средств, используемых обществом и его публичными образованиями для блага человека. В качестве примера можно привести личные права, при реализации которых используются цифровые технологии: суть личных прав при этом не изменяется (например, право на имя), но они учитываются как персональные данные в информационных базах данных. Таким образом, при регулировании общественных отношений в цифровой среде следует иметь в виду, во-первых, что это – частные отношения или публичные, и лишь во-вторых, что они существуют в цифровой форме. Поэтому трудно согласиться с определением цифровых отношений как отношений, имеющих информационную природу, поскольку они возникают по поводу совершения тех или иных действий с информацией в цифровом виде – цифровыми данными2.
Цифровые отношения возникают не только по поводу действий с информацией как их содержанием (например, с интеллектуальными правами), но и в связи с реальными вещными и обязательственными правами, выраженными в цифровой форме. При этом следует учитывать, что предметом правового регулирования могут быть только общественные отношения, основанные на действиях (воле) людей по поводу владения, пользования и распоряжения технологиями.
По мнению сторонников цифрового права как особой отрасли в системе права, в процессе цифровизации происходит изменение общественных отношений, которые выступают предметом регулирования. Следовательно, появляются общественные отношения, характеризуемые новыми чертами, которые порой «практически исключают непосредственное участие человека», происходят «помимо воли людей» и «на данном этапе объективно не могут быть урегулированы правом в необходимом объеме»3. Такое утверждение представляется противоречивым: авторы настаивают на том, что есть общественные отношения, составляющие предмет цифрового права, но в то же время отмечают, что указанные отношения не регулируются правом, то есть существуют без участия человека, а следовательно, не могут считаться общественными. Тогда возникает законный вопрос: если цифровое право – отрасль права, тогда в чем состоит его уникальный предмет и метод регулирования, без выделения которых отрасли права быть не может? «Для нас очевидно, что речь нужно вести о регулировании частных и публичных отношений, выступающих в цифровой форме, посредством характерных для них методов регулирования (соответственно саморегулирования и власти и под-чинения)»4. Безусловно, наличие цифровой формы, в которую облекаются известные общественные отношения, влечет за собой определенную специфику правового регулирования обозначенных общественных отношений, однако это не свидетельствует о том, что данные отношения становятся новыми, выделяются своими особенностями из уже существующих общественных отношений.
Таким образом, еще раз отметим, что следует различать частные цифровые отношения , которые являются «результатом правовой коммуникации (саморегулирования), следствием самостоятельных действий участников информационных систем, направленных на возникновение, изменение и прекращение таких частных отношений» и «выступают цифровыми правоотношениями в полном смысле значения этого термина», и публичные цифровые отношения , «являющиеся результатом нормативного (государственного) регулирования и направленные на оказание государственных и муниципальных услуг, на контроль и надзор в сфере информационных технологий и пр.». Такие цифровые отношения «лишь условно по традиции можно назвать правоотношениями, тогда как на самом деле это отношения не права, а власти и подчинения (властеотношения)»5. Эти два вида отношений можно определить как «цифровые отношения», то есть отношения, принадлежащие различным отраслям права, но осуществляемые при помощи цифровых технологий. Правовыми формами названных отношений являются сделки, юридические факты, административные и судебные акты.
Важно отметить, что частные цифровые правоотношения обладают некоторыми особенностями, а именно особенностями субъектного состава, объектов и содержания. Определяя особенности правового положения субъектов цифровых правоотношений, следует учитывать их основной статус (например, собственник, кредитор или арендатор) и дополнительные характеристики, вытекающие из наличия цифровой формы этих отношений (собственник, кредитор, арендатор в качестве пользователей цифровой информационной системы). Кроме того, специфику субъектного состава данных отношений определяет наличие еще одного субъекта – оператора цифровой информационной системы, оказывающего посреднические услуги субъектам основного правоотношения. Участники частного цифрового правоотношения и оператор цифровой платформы имеют соответствующие их статусу права и обязанности по основному правоотношению, а также права и обязанности, определяемые наличием цифровой формы реализации основного правоотношения6.
В настоящее время довольно много внимания в цивилистической доктрине уделяется правовому статусу искусственного интеллекта. В частности, ряд ученых предлагают признать робота субъектом права7, новой «цифровой личностью» наряду с человеком8. У нас подобная постановка вопроса вызывает серьезные возражения. Следует четко определить, кто же в конечном итоге будет являться субъектом частных цифровых отношений: человек как владелец робота или сам робот. Основной аргумент ученых, предлагающих признать робота обладающим правосубъектностью, сводится к тому, что в праве существуют некие юридические фикции, в частности юридическое лицо, легитимно признаваемое субъектом права. Поэтому указанные авторы считают, что робот – это такая же юридическая фикция.
Трудно согласиться с такой аргументацией. Прежде всего, юридическое лицо как субъект права обладает имуществом, которое может включать и робототехнику. Однако собственниками (владельцами) этого имущества, в том числе и всех видов техники, включая роботов, являются учредители этого
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ юридического лица, то есть физические лица. В конечном итоге роботом управляет человек собственной волей и в своих интересах, поэтому нет оснований наделять робота правосубъектностью, считать его агентом или посредником, рассматривать как квазиразновидность юридического лица, социализировать или иным образом искать у него возможности формирования собственной воли и ее проявления вовне9. Кроме того, робот есть имущество, имеющее определенные особенности: в частности, он может рассматриваться как источник повышенной опасности. Ответственность же за вред, причиненный этим источником, согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации10, несет его владелец (реальный человек). Именно человек должен контролировать эксплуатацию робота и при необходимости возместить вред, причиненный этим объектом.
Говоря об особенностях правового режима объектов цифровых правоотношений, также следует отметить, что это особенности двух видов. С одной стороны, это реальные объекты правоотношений, с другой – специфика этих объектов обусловлена цифровой формой существующих правоотношений. Мы согласны с мнением Б. М. Гонгало и Л. А. Новоселовой, что создание цифрового образа объекта не меняет его природы11. Благодаря цифровой форме создается возможность зафиксировать принадлежность того или иного объекта конкретному субъекту, а также осуществить пользование и распоряжение этим объектом путем передачи информации о нем. Следовательно, информация также становится объектом правового регулирования. В статье 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» информация регламентирована как «сведения (данные, сообщения) независимо от формы их представления». «В данном определении информация представлена двояко: как самостоятельный объект отношения – нематериальное благо (например, имя, результат творческой деятельности, цифровые данные) и как форма отношения (например, цифровые сведения об имени, о результате творческой деятельности, цифровых данных)»12.
Согласно статье 128 ГК РФ13 к объектам гражданских прав относятся имущественные права (бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные средства и т.д). Статья 141.1 ГК РФ отнесла к указанной категории объектов и цифровые права, которые законодатель зафиксировал как «названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». В этой связи весьма интересно мнение Н. В. Разуваева, который полагает, что такое определение не проясняет «совокупность цифровых объектов»14. Данная позиция представляется неубедительной, поскольку законодатель четко обозначает, что цифровыми признаются права, «названные в таком качестве в законе», и их содержание соответствует правилам информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Из этого можно сделать вывод, что к цифровым относятся любые права, в том числе вещные и обязательственные.
Особое место в системе объектов гражданских прав занимают доменные имена. В настоящее время в российском законодательстве практически отсутствует самостоятельное правовое регулирование данных объектов, что, безусловно, снижает их привлекательность в отечественной юрисдикции для российских и прежде всего иностранных инвесторов, выстраивающих свои бизнес-проекты с использованием цифровых технологий. В итоге в принятых законодателем принципиальных положениях четвертой части ГК РФ доменные имена не признаны самостоятельными объектами интеллектуальных прав. Не признаны они и объектами исключительных прав. Данный вопрос остается дискуссионным, однако оснований для признания их таковыми, на наш взгляд, нет, поскольку, как справедливо отмечает ряд ученых, режим исключительного права предполагает срочность и территориальность действия, что нехарактерно для прав на доменные имена. В то же время есть основания для признания доменных имен имущественными правами с применением специального правового регулирования, поскольку в гражданском обороте они имеют самостоятельное значение: «идентификация бизнеса и частных лиц» и их использование порождают спрос и предложение на рынке. Указан-
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ ными обстоятельствами объясняется необходимость специального нормативного закрепления имущественного права на доменное имя в системе объектов гражданских прав.
Еще одна проблема, требующая решения, касается цифровой реестровой модели и публичного реестра прав на недвижимость. Закрепление в законодательстве положений о бесповоротном и безусловном приоритете регистрационных записей в государственном реестре недвижимости и их приоритете перед правоподтверждающими и правоустанавливающими документами ставит вопрос о формах и условиях ответственности казны за достоверность таких данных, сформированных органами власти и должностными лицами при осуществлении ими компетенции, перед участниками оборота, добросовестно полагавшимися на достоверность и проверку соответствующих данных государственной властью при совершении установленных законом регистрационных действий и процедур.
В этой связи следует сказать и о проблеме пространственных границ недвижимости. Способ их отражения в публичных актах и реестрах является актуальным не только с правовой, но и с технической точки зрения после включения в публичные реестры некоторых зарубежных стран характеристик недвижимости вследствие представления на регистрацию трехмерных моделей сложных многоуровневых комплексов недвижимости, принадлежащих одновременно нескольким лицам. На сегодняшний день востребованность цифровой реестровой модели связана с наличием таких объектов недвижимости, как имущественные комплексы производственных и транспортных предприятий (например, метрополитен, состоящий из целого ряда многоуровневых зданий и сооружений, как наземных, так и подземных, коммуникаций между ними; другие транспортные линейные предприятия и трубопроводы). Эти объекты недвижимости весьма сложно, а порой практически невозможно описать без применения полноценных трехмерных моделей.
Как справедливо отмечают А. В. Болдырев и А. А. Новоселова, актуальность проблемы пространственных границ объекта недвижимости следует из ряда судебных актов, где в резолютивной части указываются плоскостные характеристики границ земельных участков в двухмерной системе координат нерукотворной недвижимости. Думается, что земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства невозможно достоверно отобразить в плоской проекции; более того, в дальнейшем это делает практически невозможным учет ряда объектов недвижимости, например
МОРОЗОВ С. Ю., ТУЖИЛОВА-ОРДАНСКАЯ Е. М. _________________________________ мостов, тоннелей, комплексов с нависающими этажами, которые попадают на чужую территорию. В сложившейся ситуации очевидна необходимость развития систем трехмерного кадастра недвижимости, особенно сейчас, когда такие возможности предоставляются процессом цифровизации во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в праве15.
Особенности содержания цифровых правоотношений также связаны с особенностями их цифровой формы: наряду с реальными правами и обязанностями у участников указанных правоотношений возникают дополнительные права и обязанности, обусловленные применением цифровой платформы. Вместе с тем следует согласиться с авторами, которые обращают внимание на двойственность термина «цифровые права», обозначающего как объекты права, так и субъективные права. Считается, что, распоряжаясь своим цифровым правом, его обладатель с помощью информационных технологий и технических средств осуществляет соответствующее гражданское право16. Действительно, статья 141.1 ГК РФ, регламентирующая понятие и правовой режим цифровых прав, определяет цифровое право скорее как элемент содержания правоотношения, поскольку эти права именуются правами, «содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам».
В завершение хотелось бы отметить, что цифровые правоотношения могут носить и публичный характер, поскольку возникают в разнообразных сферах публичной деятельности, в частности в судопроизводстве. Говоря об особенностях процессуального цифрового правоотношения, следует иметь в виду те же обстоятельства, о которых говорилось ранее применительно к частному цифровому правоотношению, а именно наличие основных процессуальных прав и обязанностей участников судебного процесса – истца, ответчика, суда и других лиц, участвующих в деле, и дополнительных прав и обязанностей, обусловленных цифровой формой этого процессуального правоотношения и непосредственным участием в этих отношениях нового субъекта – оператора цифровой платформы, наличием у него соответствующих основных и дополнительных прав и обязанностей в связи с выполнением им посреднических функций в данном процессуальном правоотношении.
Список литературы Частноправовые отношения в условиях цифровизации
- Андреев В. К. О понятии цифровых прав и их оборотоспособности // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2018. № 2. С. 38-41.
- Архипов В. В., Наумов В. Б. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. № 5. С. 157-170.
- Болдырев В. А., Новоселова А. А. Имущественные комплексы и цифровые технологии: направления и границы совершенствования публичных реестров // Правовые вопросы недвижимости. 2022. № 1. С. 3-9.
- Гонгало Б. М., Новоселова Л. А. Есть ли место «цифровым правам» в системе объектов гражданского права // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 179-192.
- Петров Д. А. «Роботизация» на торгах в эпоху цифровой экономики: бизнес-процесс или способ обхода закона? // Гражданское право. 2018. № 5. С. 12-15.
- Попондопуло В. Ф. Правовые формы цифровых отношений // Юрист. 2019. № 6. С. 29-36.
- Разуваев Н. В. Цифровая трансформация субъективных гражданских прав: проблемы и перспективы // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2021. № 1. С. 18-38.
- Серова О. А. Роботы как участники цифровой экономики: проблемы определения правовой природы // Гражданское право. 2018. № 3. С. 22-24.
- Талапина Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 5-17.
- Федорина А. А. К вопросу о правовом статусе робототехники и искусственного интеллекта // Право и бизнес. Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2018. № 4. С. 3-8.
- Цифровое право: учеб. / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. М.: Проспект, 2020.
- Цифровые отношения как предмет правового исследования / С. Э. Бана-кас, Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2023. Т. 14. Вып. 2. С. 492-509.