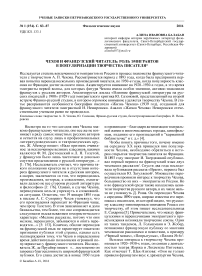Чехов и французский читатель: роль эмигрантов в популяризации творчества писателя
Автор: Балабан А.И.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (154), 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуется степень вовлеченности эмигрантов из России в процесс знакомства французского читателя с творчеством А. П. Чехова. Рассматривается период с 1893 года, когда была предпринята первая попытка перевода нескольких произведений писателя, по 1950-е годы, когда популярность классика во Франции достигла своего пика. Акцентируется внимание на 1920-1930-х годах, в это время эмигранты первой волны, для которых фигура Чехова имела особое значение, активно знакомили французов с русским автором. Анализируется доклад «Влияние французской литературы на русских писателей с 1900» (1929 год) эмигрантского критика Ю. Сазоновой, представленный на второй встрече Франко-русской студии, в котором огромное внимание уделяется творчеству Чехова. В статье раскрываются особенности биографии писателя «Жизнь Чехова» (1939 год), созданной для французского читателя эмигранткой И. Немировски. Анализ «Жизни Чехова» Немировски отечественными учеными ранее не проводился.
Творчество а. п. чехова, ю. сазонова, франко-русская студия, беллетризированная биография, и. немировски
Короткий адрес: https://sciup.org/14751032
IDR: 14751032 | УДК: 821.133.1
Текст научной статьи Чехов и французский читатель: роль эмигрантов в популяризации творчества писателя
Несмотря на то что сегодня имя Чехова знакомо французскому читателю, оно все же не возникает в ряду самых известных русских авторов и остается на слуху лишь в профессиональных литературоведческих и театроведческих кругах. Ж. Абенсур пишет: «Надо признать очевидное: за исключением великих классиков, какими являются Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, у французов было лишь частичное и довольно смутное представление о русской литературе…» [1: 176]. Исследователь считает, что причина такого положения кроется не в отсутствии интереса французского читателя к русским авторам, а скорее, заключается «в том, что переводились произведения, которые, к сожалению, охватывали далеко не все стороны русской литературы и философии» [1: 176]. Однако, в случае Чехова, переводчиков нельзя упрекнуть в сложившейся ситуации. Отметим, что 19 января 1895 года в письме А. С. Суворину Чехов упомянул, что его произведения переводят во Франции чаще, чем прозу Толстого. В этом заявлении нет и доли бахвальства, тем более, что оно сопровождается следующим высказыванием юмористического характера: «Мелкие рассказы, потому что они мелкие, переводятся, забываются и опять переводятся…» [5: 153]. Конечно, обилие переводов на французский язык не гарантирует писателю признания публики этой страны, однако есть подтверждения тому, что Чехов в определенное время действительно пользовался огромной популярностью у французского читателя. Исследователь Ж. де Пруайяр пишет: «…постепенно он завоевал благосклонность широкой французской публики. Его слава достигла в конце 1950 годов
и провинции – благодаря активизации театральной жизни в многочисленных городах, кинофильмам, изданию его произведений в “карманной библиотечке” и т. д.» [4].
Чтобы понять причины того, почему именно на середину ХХ века пришелся пик популярности Чехова, необходимо обратиться к истории открытия творчества писателя во Франции. В 1893 году эмигрант И. Твердянский опубликовал первый перевод на французский язык двух чеховских рассказов1. Спустя два года последовала публикация рассказа «Враги», перевод был осуществлен Ю. Загуляевой2. Множество переводчиков проявили интерес к творчеству Чехова, большинство из них – эмигранты из России. Но и во французской среде также находились ценители творчества русского автора, в их числе нельзя не упомянуть Д. Роша. Он переводил Чехова с середины 1890 годов, широко известна его переписка с писателем, из которой видно, что русскому классику импонировало внимание Роша к его творчеству, об этом пишет исследовательница Е. Сахарова [5]. Примечательно, что между французскими и переводчиками эмигрантского происхождения возникали творческие союзы. Один из таких тандемов, Л. Гольшманн и Э. Жобер, познакомил французскую публику со многими чеховскими рассказами и повестями, к примеру «Черный монах», «Попрыгунья», «Палата № 6»3.
Всплеск интереса к творчеству Чехова произошел в 1920–1930-х годах, он связан с деятельностью театра Жоржа и Людмилы Питоевых. Как отмечает Т. Шах-Азизова: «Они не только привили французам вкус к драматургии Чехова, но дали такую интерпретацию ее, которая, восходя к коренной русской традиции, оказалась органичной и для французской сцены» [8: 184]. Благодаря деятельности Питоевых Чехов стал настолько плотно ассоциироваться с русским театром, что отсутствие постановок его произведений в гастрольном репертуаре МХАТа в Париже в августе 1937 года вызвало недоумение публики и целый ряд вопросов критиков. Дело в том, что еще до гастролей было объявлено о том, что МХАТ становится «театром горьковского мировоззрения и мироощущения, которое как бы вобрало в себя Чехова» [6: 195]. Таким образом, Чехов как бы «отходил» на второй план. Исследователь А. Смелянский отмечает: «Для русского Парижа это был знак нового направления и нового содержания театра, бесповоротная смена вех» [6: 195]. Русские во Франции, в особенности представители первой волны эмиграции, отрицательно восприняли этот поворот в театральной жизни на родине, они крайне неоднозначно относились к фигуре Горького, писателя, сначала отправившегося в эмиграцию, а затем вернувшегося в СССР и принявшего советскую власть, и, что немаловажно, принятого самой советской властью. Чехов же был для них особо значимой фигурой. В его произведениях эмигранты первой волны находили покинутую родину, не Советскую Россию, а уже несуществующую имперскую Россию, с ее особым укладом жизни, обычаями и человеческими судьбами. У большинства выходцев из России была психологическая потребность в утраченной родине, и те, кто имел отношение к литературной деятельности, стремились заполнить эту брешь, изображая покинутую ими страну в художественных произведениях. Тексты писателей-эмигрантов часто содержали реминисценции и прямые цитаты классиков родной литературы, также из-под их пера нередко выходили переводы русских авторов ушедших эпох. Так как целевой аудиторией были французы, их деятельность способствовала открытию новой публике достижений русской культуры и в целом – сближению двух культур.
Неслучайно на встречах Франко-русской студии (проекта по сближению культур) не раз звучало имя Чехова, ведь его творчество эмигранты считали одним из достояний великой русской литературы. Эти встречи должны были способствовать культурному обмену между русскими эмигрантскими писателями, философами, историками и журналистами и их французскими коллегами. Всего в рамках проекта в период с 1929 по 1931 год состоялось 14 заседаний. Вторая встреча Франко-русской студии, состоявшаяся в ноябре 1929 года, была посвящена вопросу о взаимовлиянии двух культур. С докладом «Влияние французской литературы на русских писателей с 1900» выступила писательница, руководитель театра марионеток, а также театральный и литературный критик Ю. Сазонова. Кри- тик с самого начала своего выступления ставит вопрос о том, что можно считать литературным влиянием. Современные исследователи признают несостоятельность таких понятий, как «культурный обмен» или «литературное влияние», заявляя, что при их употреблении «приходится либо конкретизировать объем этих определений, либо… довольствоваться размытостью формулировок» [3]. Примечательно, что Сазонова сразу определяет, что понимает под заявленным понятием некую «встречу двух сознаний: одно не понимает до конца свои собственные стремления, другое уже обнаружило точный способ их выразить. Первое берет у второго только то, в чем нуждается» [10: 63]. В качестве наглядного примера, подтверждающего верность этой позиции, докладчик начинает разговор о творчестве Чехова. Она утверждает, что литератор воспринял некоторые идеи, присущие французскому натурализму, через призму произведений Э. Золя [10: 65]. Тем не менее творчество писателя «настолько наполнено его собственной личностью», что все эти идеи можно «квалифицировать как чеховские» [10: 65]. Речь идет о том, что Чехов не просто следовал эталонам натурализма, но, можно сказать, был вдохновлен ими и пересоздал их на русской почве. Сазонова говорит о том, что часто отмечается некоторая схожесть между произведениями Мопассана и Чехова, однако общие черты, по ее мнению, можно найти только в структуре текстов и выборе сюжетов. Чтобы доказать это, критик сравнивает рассказ Мопассана, который она не называет, но, судя по всему, это рассказ «Парижское приключение», и рассказ Чехова «Дама с собачкой». Сюжетное сходство произведений очевидно: речь идет о путешествующей даме, которая встречает мужчину вдали от дома и влюбляется в него. Исследовательница утверждает, что в отличие от мопассановской героини, героиня Чехова вовсе не «разочарована и не испытывает отвращения», потому что в первом случае речь идет о «грехе», воспоминания о котором не дают ей покоя, а в «Даме с собачкой» – о настоящем чувстве, которое переворачивает всю жизнь женщины [10: 65]. В «Парижском приключении» конфликт состоит в том, что главные герои не понимают друг друга в силу различия ментальностей (он парижанин, а она провинциалка), они расшатывают устои общества, пытаясь изменить свои социальные роли, но, в конце концов, система возвращает их на законные места. В произведениях Чехова Сазонова не находит той стабильности «форм жизни», социального мироустройства, которая присуща миру Мопассана [10: 66]. Исследовательница не ограничивается анализом одного произведения Чехова, она говорит и о дяде Ване, который решается на самоубийство, поскольку отказывается играть определенную социальную роль, и об Иванове, который убивает себя из-за того, что он всю жизнь положил на выполнение своей роли вместо того, чтобы следовать своим желаниям. Критик считает, что в произведениях Чехова «ничто не находится на своем месте, ни один социальный порядок не имеет права на существование и каждый персонаж находится в поиске своего места… без возможности обрести его» [10: 66]. Это проистекает из особенностей российской реальности, в которой не было места для «идеи о справедливо установленной социальной иерархии» [10: 66], существовавшей во Франции. В обличении невозможности обретения социальной стабильности, а также приверженности миссии писателя «глаголом жечь сердца людей», унаследованной от А. С. Пушкина, Сазонова видит острое несоответствие идей Чехова и идеалов натурализма. Таким образом, исследовательница доказывает уникальность, первичность творчества русского писателя.
Обратим внимание на то, что Сазоновой не требовалось объяснять присутствующей публике, кем был Чехов, и рассказывать о его творчестве, она сразу перешла к анализу и сопоставлению. Хотя встречи студии собирали довольно большое количество слушателей, все же эта публика была весьма однородна и подготовлена. Один из участников студии, литератор Б. Зайцев, отметил следующее: «”Франко-русские собеседования” устраивались сначала в крошечном помещении книжной лавки… перешли затем в большой зал Musée Social, почти всегда переполненный. Значит, дело идет не об отдельных писателях, а уже о публике (просвещенной)…» [2: 581]. Помимо российских эмигрантов, на заседаниях присутствовало большое количество французов, уже имевших представление о русской культуре. Во-первых, речь идет о публике, имеющей отношение к профессиональной литературной, театральной и журналистской деятельности. Во-вторых, присутствовавшие на встречах так или иначе были причастны к жизни русских в Париже: это могли быть как уже крепкие давние связи с сообществом, так и недавно образовавшиеся контакты. В процессе общения с российскими эмигрантами, очень высоко ценившими творчество Чехова, французы не могли не почерпнуть сведения о столь значимой фигуре русской литературы. Отметим, что организаторы студии всеми силами пытались привлечь известных переводчиков-французов, среди них был уже упомянутый нами в связи с переводами Чехова Д. Рош, в 1920–1930-е годы он стал активно переводить не только русских классиков, но и эмигрантских авторов (Д. Мережковского, В. Набокова, И. Шмелева и других).
Также следует обратить внимание на то, что в заседаниях принимал участие А. Моруа. Не исключено, что интерес к определенным русским литераторам и деятелям в нем пробудили именно эмигранты, старавшиеся на встречах студии как можно полнее и интереснее представить явления русской культуры. К примеру, в 1959 году
Моруа напишет статью «Искусство и мудрость Чехова»4.
Итак, фигура Чехова была крайне значима для эмигрантов из России. Поэтому неслучайно именно в Париже в 1930-х годах писательницей-эмигранткой И. Немировски была предпринята попытка масштабного исследования его жизни. Несмотря на то что писательница происходила из еврейской семьи, она родилась и все детство провела в Российской империи, став носительницей русской культуры. Выехав из России еще молодой девушкой, она принадлежала к той части первой волны эмиграции, которую принято называть «молодым поколением». В. Ф. Ходасевич говорил об этом поколении, к которому относился и сам, следующее: «…молодежь не нашла учителей в эмиграции и стала искать образцов отчасти в прошлом, отчасти у иностранцев» (см.: [7: 209]). Немировски училась как у европейских писателей, так и у русских классиков: Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова. Создав биографию «Жизнь Чехова», эмигрантка отдала дань уважения одному из своих учителей. Предназначив же свое произведение французскому читателю, она взяла на себя миссию посредника между Чеховым, его творческим наследием, представляющим собой важную веху в становлении русской культуры, и французским обществом.
Немировски сотрудничала с французским журналом «Эвр либр», где в мае 1940 года была напечатана «Молодость Чехова», первая часть будущей биографии5. Еще при жизни автора во время оккупации Франции в октябре 1940 года шли переговоры о публикации «Жизни Чехова» в издательстве «Albin Michel», это стало возможным благодаря тому, что фамилия Немировски не попала в список запрещенных авторов6. Однако в 1942 году Немировски погибла в Освенциме, а ее книга «Жизнь Чехова» вышла в этом издательстве только после войны, в 1946 году7.
«Жизнь Чехова» можно отнести к жанру бел-летризированной биографии. Однако это вовсе не исключает тот факт, что Немировски стремилась быть точной в изображении исторического времени. Она привлекала к работе над произведением различные исторические источники, в их числе можно назвать «Записные книжки» Чехова и воспоминания Бунина. Много внимания писательница уделяет демонстрации социальнополитического положения в России. Например, она говорит о напряженной атмосфере, царившей в учебных заведениях в эпоху Чехова: «В каждом подрастающем школьнике, каждом будущем студенте, государство, казалось, уже видит опасного революционера… Революция становилась захватывающей игрой, и было принято решение снять напряжение абсурдными, жестокими методами, сложной системой шпионажа и интриг...» [9: 734]. Далее она рассказывает о злоупотреблениях по части дисциплинарных наказаний, подозрительности учителей по отношению к своим подопечным и коллегам.
Немировски предлагает своему читателю широкую картину культурной и социальной жизни России 1860–1900-х годов. Об этом свидетельствует, например, следующее рассуждение писательницы: «Россия 1860 годов хотела упразднения крепостного права, желала социальных реформ, надеялась на лучшее будущее. Все зло, казалось, происходило от закрепощения мужика» [9: 762]. Далее Немировски говорит о том, что российская интеллигенция идеализировала русского мужика, искала в нем пророка, дворянское же сословие того времени она считает «полуразрушенным» [9: 762]. Также автор биографии выражает свое видение эпохи Николая II: «Тупая цензура, жестокие нравы, революционеры и государство, соревнующиеся в жестокости… примерно такой была картина русского общества 1880–1890 годов» [9: 762]. Таким образом, мы видим, что в канву рассказа о жизни Чехова оказывается вплетен историко-философский очерк о жизни российского общества.
Ориентируясь на французского читателя, незнакомого с русской культурой, писательница принимала на себя просветительскую и популяризаторскую функции, что скорее характерно для публициста, нежели для беллетриста. Она объясняла своей аудитории бытовые, социальные, религиозные особенности жизни русского человека. Так, например, описание православной церкви, которую каждую субботу посещали Чеховы в Таганроге, она сопровождает культурнобытовыми сведениями о том, что в отличие от католических в православных храмах нет скамей и что прихожане должны стоять или молиться на коленях [9: 731].
В «Жизни Чехова» много места уделено рассказу о театральной жизни России, особый интерес представляют замечания Немировски о нравах и предпочтениях публики. Она пишет: «Мания морализаторства и поучений в России не обошла и театр. Зритель желал рукоплескать положительным персонажам, преданным, энергичным, честным. Российская буржуазия считала высшим наслаждением слушать высокие рассуждения о свободе, человеческом достоинстве, благе народа» [9: 781].
Примеряя на себя роль литературного критика, автор «Жизни Чехова» находит аналогии в жизненных перипетиях Диккенса и Чехова [9: 743]. Немировски говорит о некоторых общих чертах, свойственных как Чехову, так и Мопассану и Мериме [9: 801–803]. К тому же писательница сопоставляет идеи и манеры письма Чехова и Толстого, даже сравнивает «Жизнь Ивана Ильича» Толстого и «Обыкновенную историю» Чехова [9: 791–792]. Она представляет читателю краткое содержание многих произведений Чехова («Чайка» [9: 817–820]; «Степь» [9: 779]; «Палата № 6» [9: 809–810]; «Ванька» [9: 802]; «Тоска» [9: 802] и другие). Некоторые из произведений Не-мировски объединяет в группы: так, она анализирует параллельно две новеллы «В овраге» и «Мужики»8, поскольку они содержат воспоминания писателя об определенном жизненном этапе, когда он находился в Мелихове [9: 814–816].
Итак, при создании биографии «Жизнь Чехова» Немировски проявляет себя не только в качестве писательницы, но и как публицист, литературный критик, историк. В итоге перед нами оказывается огромный труд, не только способный познакомить читателя с судьбой и творчеством Чехова, но и дающий возможность проследить истоки его идей, представлений о мире. Писательница рассказывает о ситуации в стране и говорит об особенностях культуры в чеховское время, тщательно объясняя каждый момент, который может вызвать вопросы у незнакомого с русской культурой читателя. Биография создана с целью донести до французской аудитории целостную картину жизни России, а это значит, что эмигрантка принимает на себя миссию «посланника», готового знакомить французскую публику с русской культурой.
Мы установили, что многие из тех, кто популяризировал Чехова среди французов, были эмигрантами из России. Речь идет о представителях первой волны эмиграции, а также о тех, кто выехал из России еще до революций. Последние, в свою очередь, также считали своей родиной императорскую Россию, ее особенности и менталитет жителей были им знакомы и важны. То, что пик популярности чеховских произведений во Франции пришелся на 1950-е годы, во многом заслуга эмигрантов первой волны и их предшественников, они не одно десятилетие пропагандировали творчество русского автора среди французской публики, а также сумели заинтересовать французских переводчиков, критиков и театральных деятелей.
* Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект «Кросскультурная коммуникация между Россией и Францией 1920– 1930-х годов: литература, публицистика, периодика» (РГНФ а(м) № 15–24–08001).
Список литературы Чехов и французский читатель: роль эмигрантов в популяризации творчества писателя
- Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект «Кросскультурная коммуникация между Россией и Францией 1920-1930-хгодов: литература, публицистика,периодика» (РГНФ а(м)№ 15-24-08001)
- Твердянский перевел рассказы «Гусев» (La mort du matelot. Trad, par J. Tverdianski. Revue des deux Mondes, 1893. Tome 118. 1-е juillet. P 197-205)
- Ennemis. Trad, de J. Zagouliaieff. Les conteurs msses mondemes. Recueil de nouvelles. Paris, Ollendorf, 1895
- «Черный монах» (Le moine noir. Trad, par L. Golschmann et E. Jaubert. La Revue de Paris. 1897. Aorit. P. 449-186)
- Le Fuyard. Trad, par J. Tverdianski. Revue des deux Mondes, 1893. Tome 118. 1-е juillet. P. 206-212
- Tete а Г event. Trad, par L. Golschmann et E. Jaubert. La Revue de Paris. 1898. Fevr. P. 449-178
- La salle № 6. Trad, par L. Golschmann et E. Jaubert. La Revue de Paris. 1898. Aout. P. 449-511
- Nemirovsky I. La Jeunesse de Tchekhov//Les (Euvres libres). № 226. Fayard, mai 1940
- Nemirovsky I. La Vie de Tchekhov. P: Editions Albin Michel, 1946
- Абенсур Ж. Культурный трансфер между Францией и эмигрантской Россией: притяжение, братство и отречение//Новейшая история России/Modem history ofRussia. 2015. № 1. С. 174-181.
- Зайцев Б. Дневник писателя: русские и французы//Le Studio Franco-Russe 1929-1931/Textes reunis et presentes par Leonid Livak; Sous la redaction de Gervaise Tassis. Toronto: Toronto Slavic Library, 2005. C. 579-583.
- Лобачева Д. В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий . Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kultumyy-transfer-opredelenie-struktura-rol-v-sistemeliteratumyh-vzaimodeystviy (дата обращения 15.11.2015).
- Пру айяр Ж. де. Чехов во французской критике (1960-1983) . Режим доступа: http://feb-web. ru/feb/chekhov/critics/mll/mll-0272.htm (дата обращения 16.11.2015).
- Сахарова Е. Дени Рош-переводчик Чехова//Чеховиана: Чехов и Франция. М.: Наука, 1992. С. 153-166.
- Смелянский А. В августе 1937 (Париж, Художественный театр, Чехов)//Чеховиана: Чехов и Франция. М.: Наука, 1992. С. 193-204.
- Струве Г. И. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж: YM-CA-PRESS, 1984.420 с.
- Шах-Азизова Т. Питоевы, или Русско-французский Чехов//Чеховиана: Чехов и Франция. М.: Наука, 1992. С. 184-193.
- Nemirovsky I. La Vie de Tchekhov//Nemirovsky I. (Euvres completes (2 tomes) tome II: La Pochotheque LE LIVRE DE POCHE. P. 701-855.
- Sazonova I. L’lnfluence de la litterature franfaise sur les ecrivains russes depuis 1900//Le Studio Franco-Russe 1929-1931/Textes reunis et presentes par Leonid Livak; Sous la redaction de Gervaise Tassis. Toronto: Toronto Slavic Library, 2005. P. 63-72.