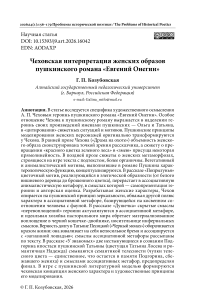Чеховская интерпретация женских образов пушкинского романа «Евгений Онегин»
Автор: Козубовская Г.П.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется специфика художественного осмысления А. П. Чеховым героинь пушкинского романа «Евгений Онегин». Особое отношение Чехова к пушкинскому роману выражается в наделении героинь своих произведений именами пушкинских — Ольга и Татьяна, в «цитировании» сюжетных ситуаций и мотивов. Пушкинские принципы моделирования женских персонажей оригинально трансформируются у Чехова. В ранней прозе Чехова («Драма на охоте») объемность женского образа сконструирована точкой зрения рассказчика, а сюжету о превращении «красного цветка зеленого леса» в «змею» присуща некоторая прямолинейность. В поздней прозе сюжеты о женских метаморфозах, строящиеся на игре текста с подтекстом, более органичны. Вегетативный и анималистический мотивы, выполнявшие в романе Пушкина характерологическую функцию, концептуализируются. В рассказе «Попрыгунья» цветочный мотив, реализующийся в элегической образности (от белого вишневого деревца до брошенного цветка), перерастает в ассоциативную анималистическую метафору, в смыслах которой — самопрезентация героини и авторская оценка. Разрабатывая женские характеры, Чехов опирается на пушкинский принцип зеркальности, обнажая другой полюс характера в ассоциативной метафоре, базирующейся на косвенном соотношении человека с фауной. В рассказе «Душечка» скрытые смыслы «перевоплощений» героини актуализуются в ассоциативной метафоре, и идеальная хозяйка пасторального мира обретает материализованное воплощение в черной кошечке-двойнике, носительнице инфернальных смыслов. Верность долгу в Татьяне Песоцкой («Черный монах») оборачивается крахом жизни: она взваливает на себя непосильное бремя и ассоциируется с «загнанной лошадью»; смыслы ассоциативной метафоры рассыпаны по тексту. В рассказе «У знакомых» две нестыкующиеся в сознании Подгорина ипостаси пушкинской Татьяны (цветущая Татьяна Лосева и романтичная Надежда) смыкаются семантикой телесности (чулки телесного цвета — единственное, что остается в памяти Подгорина, сбежавшего жениха) и смыслами ассоциативных метафор, предопределяя финал. В игре с пушкинской литературной моделью формируются чеховская концепция женского характера и художественные принципы его моделирования.
А. П. Чехов, А. С. Пушкин, архетип, литературная модель, мотив, поэтика, полисемантизм, ассоциативная метафора, метаморфоза, мифологема
Короткий адрес: https://sciup.org/147253035
IDR: 147253035 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.16042
Текст научной статьи Чеховская интерпретация женских образов пушкинского романа «Евгений Онегин»
П редставление об Ольге Лариной как о «пустом», «легкомысленном» существе, закрепившееся в русской критике и получившее продолжение в советском литературоведении, в настоящее время пересмотрено: по утверждению психологов, Ольга — образец душевного и физического здоровья, в отличие от нервно-истеричной Татьяны [Робак]1.
Однако еще в начале XX в. в «Словаре литературных типов. Пушкин. Типы Пушкина» (1912) была отмечена «объемность» Ольги как литературного персонажа. В пушкинском романе Ольга существует в парадигме несовпадающих смыслов. С одной стороны, убийственная ирония Онегина (« Вандикова Мадонна », « глупая луна » [Пушкин: 57]2), с другой — элегическая метафорика: ландыш3 («…Цвела, как ландыш потаенный …» [Пушкин: 46]) и лилия (см. в раздумьях Ленского накануне дуэли: «Буду ей спаситель. / Не потерплю <…>, Чтоб червь презренный, ядовитый / Точ ил лилеи стебелек ; / Чтобы двухутренний цветок /
Увял еще полураскрытый» [Пушкин: 126])4. «Ландыш» и «лилия» несут эмблематичные смыслы, символизируя непорочность, чистоту, девственность. Эмблематика питается мифами: ландыши родились из капелек нетленного пота спасшейся от преследования лесных фавнов Дианы-охотницы5. Цветочные сравнения отсылают к мифологеме женщина-цветок, актуальной в русской элегической поэзии начала XIX в. Лилия в культуре наделена и другими смыслами: это цветы смерти, которыми украшали ложе молодых девушек6.
Условно-поэтические смыслы цветочной символики обогащены историко-культурными. Называя Ольгу Филлидой, Онегин иронизирует над идеальными представлениями Ленского о женщинах. На амбивалентность образа Филлиды в культуре указал Г. Ю. Карпенко [Карпенко: 152]: Филлида, с одной стороны, ассоциируется с девственностью и верностью в любви, с другой — со страстностью. Согласно древнегреческому мифу, на могиле умершей с горя Филлиды, не дождавшейся возлюбленного, вырастают деревья, осыпающиеся в месяц ее смерти7. На наш взгляд, Филлида — пластическое выражение мифологемы женщина-цветок, включающей, в том числе, и эротические смыслы: элегик Ленский восхищен расцветшей телесностью «идеальной» Ольги.
По некоторым источникам, Филлида — гетера, якобы оседлавшая мудреца Аристотеля8. Ситуация «оседлания» восходит к мифологическому архетипу, содержащему мотив коварства женской власти.
В ассоциативных сопряжениях отдельных эпизодов пушкинского романа — разнообразные смыслы «пасторальности»9. В «Путешествии Онегина» запечатлен новый идеал Автора, основанный на простых жизненных ценностях («…мой идеал теперь — хозяйка , / Мои желания — покой, / Да щей горшок, да сам большой » (курсив автора — Г. К .) [Пушкин: 203]) и рифмующийся с ироничными эпизодами чайных ритуалов во 2-й главе романа. Ольга, разливающая чай, вписывается в типологический ряд «барышень на выданье»10, прочерчивая уходящую в подтекст перспективу удвоения своей маменьки, открывшей тайну, «как супругом / самодержавно управлять» [Пушкин: 51].
Анималистический мотив (Ольга «легче ласточки , влетает» к проснувшейся Татьяне; в культуре ласточка — одна из священных птиц Афродиты, вестница весны и любви11) включает семантику «легкости». Хотя Ольга не воспринимается Ленским как «губительница», невольная вина героини никак не акцентируется Автором, но этот смысл «мерцает» в романе. Элегический мотив девы, оплакивающей безвременно ушедшего Ленского, сменяется другими, пунктирно очерченными, — заглохшей могилы «бедного певца» и девы под венцом. В этом и легкость забвения, и объективная сложность жизни, «не укладывающейся в условности идиллического хронотопа» [Ермоленко: 220].
Татьяна в романе Пушкина существует в ином семантическом контексте, чем Ольга12. Из растений упоминается только сломанная сирень, неоднозначно истолкованная исследователями13.
Анималистические ассоциации развертывают смысл «дикого» как «природного» («Дика, печальна, молчалива, / как лань лесная боязлива» [Пушкин: 47]; «…и утренней луны бледней / И трепетней гонимой лани …» [Пушкин: 112–113]). В 8-й главе в сцене свидания Онегина с Татьяной «дикое» (« дикий сад ») как антитеза цивилизованному пышному Петербургу, помимо «естественного», получает семантику «нетленного».
«Бледное» развертывается в романе в вариациях «лунного»: Татьяну, ассоциирующуюся со Светланой В. А. Жуковского, сопровождает луна. «Бледный» в 8-й главе романа трансформируется в «холодный» (эпизод появления Татьяны на светском рауте). Эллипсис, связанный с метаморфозой уездной барышни в светскую даму, оригинально объяснила О. Р. Аранс, прочертив семантические цепочки ассоциативной образности, в которые включена Татьяна: «богиня Невы» — «невская русалка» — «жертвенная Персефона» (богиня царства мертвых, владычица преисподней) [Аранс]. «Бледный» трансформируется в «потусторонний»: Онегин, примчавшийся к Татьяне, «идет, на мертвеца похожий» [Пушкин: 185], что отсылает к архетипичной балладной ситуации — приход мертвого жениха за своей невестой14.
***
Татьяна и Ольга — не самые частотные имена чеховских героинь, но сюжеты, с ними связанные, содержат аллюзии на Пушкина. Ограничившись рассмотрением только тех произведений, героини которых наделены этими именами, мы имеем в виду, что имя — знак литературного характера и литературной модели — несет архетипические смыслы, заложенные в этих моделях15. Чеховские героини существуют в парадигме «узнаваемое»/«неизвестное», в гипотетических ситуациях, развертывающих возможности, заложенные в характерах. Избранные писателем сюжеты превращений с их неоднозначным прочтением как нельзя лучше раскрывают смысл чеховских интерпретаций.
Оленька Скворцова — центральный персонаж «Драмы на охоте» (1884)16, «героиня беспокойного романа», написанного бывшим следователем Камышевым, — ассоциируется с пушкинской Ольгой и по созвучию имен, и по внешности — тот же тип блондинки («…с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями» [Чехов; т. 3: 264]). Как и в пушкинском романе, чеховская Ольга существует на стыке оптик разных персонажей, зафиксированных автором уголовного романа17.
Растительный мотив в женском образе — сквозной в «Драме на охоте»: мифологема женщина-цветок репрезентирована в метафоре « красный цветок зеленого леса » [Чехов; т. 3: 272]. Вуалируя свою истинную роль в происшествии, Камышев замыкает Ольгу в условно-символические формулы:
«…она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня» [Чехов; т. 3: 2 66].
Однако красота девушки обнаруживает другой полюс: для «испорченного животного» — графа Карнеева — она проявляется в «телесном»:
«— При таком молодом лице и такие развитые формы!» [Чехов; т. 3: 266].
В этом замечании — отголоски «эротических» смыслов пушкинской Ольги в восприятии Ленского, но значительно огрубленные.
Объемность характера Ольги, создающаяся точкой зрения Камышева, раздираемого противоречиями, кажется сконструированной: «вегетативное» замещается «анималистическим». «Анималистическое», правда, изначально задано в Ольге семантикой имени: ее «птичья» фамилия Скворцова («птичье» ассоциируется с «ангельским») предопределяет повороты сю-жета18. В культуре скворцы — символ трансформации и возрождения, а также вестники перемен — наделены семантикой оборотничества19. «Анималистическое» получает выражение в прямом соотнесении реальной змеи (эпизод в усадьбе графа) с Ольгой, запечатленной на фото в кабинете Камышева:
«Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины» [Чехов; т. 3: 266].
Метафора охватывает стадии падения героини, перешагнувшей «последнюю» черту: «наяда», «лесная фея» превращается в «глупую развратную дрянь», «маленькую гадину», в «продажную женщину» (правда, через ассоциации с овечкой, «озябшим барашком» — архетип жертвы) — и все это в «двоящейся» оптике Камышева, не прощающего ей измены20. Архетип Филлиды, оседлавшей мужчин, реализуется в образе Ольги-амазонки, ловко сидящей в седле и упивающейся своим развратом, — предварение неизбежного кровавого финала.
В поздней прозе Чехова и сюжеты, и трактовки женских образов более органичны.
Две чеховские Ольги («Попрыгунья» и «Душечка»), существующие в парадигме «жены — супруги»21, где «жены» — хранительницы домашнего очага, «супруги» — женщины-изменницы, при всей противоположности сходны в одном — в отсутствии собственного содержания.
История Ольги Ивановны («Попрыгунья», 1891, опубл. 1892), наделенной присущими пушкинской Ольге чертами — женской привлекательностью, наивностью, простодушием, — рассказана на ее «языке». Цветочный мотив, пунктирно прочерченный (от сравнения героини с молодой вишней, покрытой нежными белыми цветами, к цветам, устилающим в ее снах путь в искусстве к славе, к искусственным цветам, за которыми несчастный Дымов был отправлен с дачи назад в город, и, наконец, к скрытой метафоре «брошенного цветка» в завершающемся романе с Рябовским)22, постепенно вытесняется анималистическим. Униженная любовником, Ольга Ивановна чувствовала себя «маленькой козявкой» [Чехов; т. 8: 25] — энтомологическая самопрезентация героини. «Анималистическое» (зоометафора23) развернуто в семантических цепочках с энтомологическим ядром (для Ря бовского после волжского путешествия Ольга
Ивановна всего лишь преследующая его «надоедливая муха», «жалящая оса»). А. В. Кубасов отмечает две формы анимализации в прозе Чехова — прямая (открытая анимализация, жестко задающая направление читательских ассоциаций) и косвенная: «В ней не называется прямо то или иное животное, а лишь подразумевается» [Кубасов, 1998: 48]. На основе косвенной, на наш взгляд, формируется специфический чеховский прием — «ассоциативная метафора»24, то есть метафора, существующая в эпизодах, связанных с энтомологическими фразеологизмами. Ассоциативная метафора — органичная форма презентации другого полюса характера.
Переживаемая метаморфоза — низведение до насекомого — ведет героиню к прозрению, к инициации25. Традиционная в культуре символика стрекозы — душа — размыта, уничтожена в бессмысленном порхании героини по жизни, сопровождаемом к тому же человеческой жертвой, но беспомощность героини в безысходной ситуации не может не вызывать жалости. Указанные А. В. Кубасовым зооморфные аналогии — «змея» и «ворона» [Кубасов, 1998: 50], включаясь в семантические цепочки, где «энтомологическое»26 сосуществует с «орнитологическим» и «герпетологическим», на наш взгляд, очерчивают сюжет.
От пушкинской Ольги в чеховской Душечке («Душечка», 1898, опубл. 1899) — утрированная телесная красота («полные здоровые плечи», «полные розовые щеки», «мягкая белая шея, добрая наивна я улыбка…» [Чехов; т. 10: 103]) и «душевность».
В упоминаниях шеи — отсылка к мифологеме женщина-цветок и ассоциация с грациозностью кошки.
Вегетативный мотив почти редуцирован у Чехова27; упоминаемый «горбыль» — трансформированное дерево, пригодное для строительства28, — сигнал полного растворения женщины в делах мужа («…и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль …» [Чехов; т. 10: 106]). В ее снах присутствуют те же предметы, но в угрожающей функции, предвещая катастрофический финал семейной идиллии. Единственное растение представлено в тексте в густаторном ощущении — через вкус утраченного:
«И так жутко и так горько, как будто объелась полыни » [Чехов; т. 10: 110]29.
Смерть мужей — замирание души, отлет души от тела.
В повторе чаепитий, символизирующих пасторальность, последовательно наращивается семантика катастрофичности. Так, Кукина, кашляющего по ночам, Оленька поила «малиной, липовым цветом» [Чехов; т. 10: 104]. «Малина» в культуре наделена жертвенным смыслом: этот цвет кустарник приобрел от капелек крови поранившейся нимфы Иды, воспитывающей младенца Зевса30. Упоминание липы отсылает к мифу о Филемоне и Бавкиде, которым боги дали возможность умереть одновременно (после смерти Филемон обращен в дуб, а Бавкида — в липу)31; миф не получил продолжения в судьбе героини. Чай оказался смертоносным для следующего мужа — Пустовалова.
Анималистический мотив входит в произведение сначала через самопрезентацию героини: страдая бессонницей в ожидании Кукина, «она сравнивала себя с курами , которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха» [Чехов; т. 10: 104]. В повторе эпизодов семейной идиллии происходит наращивание смысла ассоциативной метафоры — «глупая курица». В легкости «перевоплощений» героини, сменяющей мужей, — ассоциации с кошачьей оборотнической природой32.
Метаморфоза Ольги в сюжете вполне укладывается в вегетативную метафору: цветение — увядание (постарела, подурнела). «Вегетативное» пронизано «анималистическим»: скрытые до времени смыслы (она подобие Черной вдовы) выходят на поверхность — черная кошечка появляется в тот момент, когда героине не в кого больше перевоплощаться.
На двойничество героини и кошечки указывает А. К. Жол-ковский33. Образ женщины-губительницы, не развернутый в романе Пушкина, получил у Чехова развитие в «подводном течении». Тип женщины-кошки обрел свое воплощение: душа героини как бы материализуется в черной кошечке. Полюса в парадигме «курица — кошка» сняты, демонстрируя пере-текаемость одного в другое в пасторальной идиллии.
Две чеховские Татьяны — варианты типа верной супруги («Черный монах», 1893, опубл. 1894; «У знакомых», 1898).
Татьяна Песоцкая, с детства влюбленная в Коврина, становится его женой скорее в силу обстоятельств:
«…он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная , слабая, несчастная Таня ему нравилась» [Чехов; т. 8: 240].
Объяснение героев идет под знаком Пушкина/Чайковского: Ков рин напевает арию Гремина. Письма, связывающие «начала»
и «концы», — аллюзия на пушкинский роман, с тем отличием, что оба написаны Татьяной (см. о письмах: [Сахарова: 160]). Как и пушкинская Татьяна, чеховская героиня переживает утрату иллюзий относительно избранника: открытие пушкинской Татьяны («Уж не пародия ли он?» [Пушкин: 150]) в чеховской героине становится полным крахом всей ее жизни:
«Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим…» [Чехов; т. 8: 255].
Хотя героиня и перекладывает вину на Коврина, но финал был изначально задан: в фамилии «Песоцкий» — семантика песка как ненадежного, зыбкого.
Использование Чеховым лакуны (опущен рассказ о жизни Татьяны после расставания с Ковриным) создает эффект не-сведенности ее обликов: счастливой Татьяна была только в искаженной оптике Коврина. Эта несведенность зафиксирована в вегетативном мотиве. Вегетативная деталь из характерологической у Пушкина становится нарратологической34, приобретая концептуальный смысл. Черный тюльпан в саду Песоцких полисемантичен: он — подобие миражного Черного монаха — ассоциируется с самим Ковриным, но это и символ перегоревшей души Татьяны, ее боли. Сад оборачивается для Татьяны не просто непосильным бременем, но и проклятием. Исковерканная жизнь, незаживающая рана («Мою душу жжет невыносимая боль… Будь ты проклят» [Чехов; т. 8: 255]) — плата за ошибку. Мокрые от росы свежие срезанные цветы, стоящие в вазах (еще до встречи с Черным монахом), отзовутся в памяти Коврина перед его смертью. «Срезанные цветы» полисемантичны: здесь и красота, и намек на скоротечность, преходящесть этой красоты, жажда счастья и предчувствие недолговечности человеческих отношений. Символическая деталь несет сюжетообразующий смысл: в сопряжении безумного бреда и глубоко скрытых в душе воспоминаний — своеобразное перетекание боли Татьяны в Коврина и его открытие утраченного как единственно необходимого.
Измученная, издерганная Татьяна ассоциируется с загнанной лошадью, несущей непосильное бремя забот о саде и о безумном муже, насильно привязанной и к саду35, и к Коврину. (В этом — пародийные отголоски «анималистического» сравнения пушкинской Татьяны с ланью.) Э. А. Радь указала на концептуальный смысл яблони в саду Песоцкого: «…древо яблоня — эмблема первородного греха — посвящено Церере, римской хтонической богине, насылающей на людей безумие <…>, трактуется как символический образ трагического финала повести, гибели сада, смерти его создателя и самого Коврина» [Радь: 85–86]. Образ Черного монаха, возникшего из «дымного» сада, ассоциирующегося с потусторонним миром, увязан с черным тюльпаном и с лошадьми семантикой смерти (Черный монах — вестник смерти; а мифопоэтический смысл коней — проводники в потусторонний мир), предвещая гибель героя в «готическом» сюжете36.
В рассказе «У знакомых» (1898) Татьяна — одна из сестер, владелица имения, куда приглашен адвокат Подгорин с целью помочь хозяевам сохранить имение, которое скоро будет продано за долги. Анималистический мотив возникает начиная с фамилии хозяев имения: «Говорящая фамилия "Лосевы" актуализирует семантику охоты…» [Кубасов, 2013: 150]37. Под-горин в сюжете напоминает загнанного зверя, едва не попавшего в расставленную ловушку: окружающие, моля о помощи, подталкивают его к женитьбе на Надежде, сестре Татьяны.
В оптике Подгорина Татьяна предстает в двух ипостасях: в прошлом красивая молодая девушка, ожидающая жениха, теперь — располневшая, но по-прежнему красивая (подчеркнуты ее «полные белые руки»)38. Впечатление от цветущей красоты, правда, снижено указанием на сидящих рядом с ней здоровых, сытых девочек, похожих на булки.
Анималистический мотив вводится в текст усадебного сюжета точкой зрения Подгорина. Ассоциативная метафора развертывается в семантическом поле «курица» (Татьяна напоминает ему курицу, готовую в любой момент броситься на защиту детей и дома) на основе обыгрывания фразеологиз-мов39 и использования метафоры «гнездо».
«Пушкинское» промелькнуло в чеховской Татьяне в ее «страстном» монологе: здесь верность себе проявилась в готовности куда угодно следовать за мужем — хоть в тьмутаракань, хоть в Сибирь (хотя сама она признается, что настрадалась с мужем), в преданности своему родовому имению:
«Я здесь родилась, это мое родовое гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу, я умру с отчаяния» [Чехов; т. 10: 11].
На основании этого монолога О. В. Богданова связывает образ Татьяны с женщинами-декабристками [Богданова: 13]. На наш взгляд, здесь скорее можно говорить об ироническом модусе40. Монолог сопровождает непушкинский жест («топнула ногой»), выражающий отчаяние и беспомощность, чем и снят императив. Чеховские Татьяны опровергают смысл своего имени: они далеко не устроительницы.
Пушкинская Татьяна у Чехова «раздваивается»: «романтичностью» наделена ее сестра Надежда, с которой связан «лунный» эпизод сюжета, разбередивший душу Подгорина («…белая, бледная, тонкая, очень красивая при лунном свете» [Чехов; т. 10: 22]). И хотя в сознании Подгорина две ипостаси пушкинской Татьяны не сведены воедино, они смыкаются семантикой телесности в ситуации охоты на жениха-спасителя и ассоциативной анималистической метафорой. В памяти Подгорина от Надежды, ассоциирующейся с Дианой-охотницей, осталась одна деталь — чулки телесного цвета, которые рифмуются с тапочками, чуть не превратившими его в зятя41. И в этом намек на повторяемость судеб сестер и мотивировка бегства героя.
Пушкинские ходы в «возможном» сюжете романа (нереализованный порыв героя и сожаление о несостоявшемся счастье) у Чехова уходят в подтекст. Сбежавший жених — архетип русской литературы42. «Романтическое» подпитано «пошлым», и это знак полного разрыва с прошлым для героя.
Цветочный мотив, выполняющий у Пушкина характерологическую функцию, становится у Чехова концептуальным, стягивающим многообразие смыслов. Букет срезанных роз в сумеречном кабинете Татьяны полисемантичен: цветы здесь — символ хрупкой и исчезающей красоты, знаки ситуации несостоявшегося жениха (розы рифмуются с сиренью, упоминаемой во время описания дневной прогулки по саду — аллюзия на пушкинский роман). В срезанных цветах — намеки на необратимость прошлого и на завершение ситуации.
В интерпретации Чеховым героинь романа «Евгений Онегин» очевидна ориентация на пушкинские принципы моделирования характеров.
Избранный Чеховым сюжет — женские метаморфозы — позволяет обнажить заложенные в характере полярности.
В ранней прозе («Драма на охоте»), где объемность женского образа сконструирована точкой зрения рассказчика, сюжет о превращении «красного цветка зеленого леса» в «змею» отличает прямолинейность. В поздней прозе писателя и сюжеты, и трактовки женских образов более органичны. Чехова интересуют скрытые возможности характера: обнажившееся в героинях «полярное» находит воплощение в тонком обыгрывании смысловых взаимосвязей, сохраняя неоднозначность характеров.
В игре с пушкинской литературной моделью изменяется функция мотивов — вегетативного и анималистического: выполнявшие в романе Пушкина лишь характерологическую функцию, они становятся концептуальными и сюжетообразующими. Так, цветочный мотив, несущий семантику элегической образности начала XIX в., перерастает в анималистическую метафору, содержащую и самопрезентацию героини, и авторскую оценку («Попрыгунья»). Зооморфные аналогии, включаясь в семантические цепочки, где «энтомологическое» сосуществует с «орнитологическим» и «герпетологическим», очерчивают сюжет. Вегетативность как знак семейной идиллии пародийно обыграна в «Душечке»: густаторная метафора («полынная горечь») предопределяет финал — полное одиночество героини и переживание ею собственной ненужности. Скрытые смыслы «перевоплощений» героини актуализуются в ассоциативной метафоре: идеальная хозяйка пасторального мира обретает материализованное воплощение в черной кошечке, ее анималистическом двойнике.
Символическая деталь (букет свежих срезанных роз), обретшая сюжетообразующую функцию, — полисемантична: здесь и выражение полноты сиюминутного счастья, обернувшегося обманом, и предварение неизбежного разминовения героев в финале («Черный монах»). Вегетативный мотив (букет рифмуется с черным тюльпаном в саду Песоцких) увязывает героев в единый узел: цветок — двойник заболевающего Коврина и одновременно символ перегоревшей души Татьяны. «Вегетативное» перерастает в «анималистическое», снижая образ «высокой» героини: верная долгу, гибнущая от непосильного бремени Татьяна ассоциируется с загнанной лошадью. Смыслы ассоциативной метафоры рассыпаны по тексту.
Букет свежих срезанных роз, сопрягая смыслы живого и мертвого, обретает смысл несостоявшегося счастья, готовя финал — бегство «жениха» («У знакомых»). Разложенный надвое образ пушкинской Татьяны (две нестыкующиеся в сознании
Подгорина ипостаси — цветущая Татьяна Лосева, мать девочек-булочек, и романтичная Надежда) реализуется в параллельных микросюжетах: ожидания жениха и надежды на спасение имения. Верность долгу пародийно обыгрывается в хранительнице домашнего очага/гнезда Татьяне в ассоциативной метафоре (курица-наседка).
Специфический чеховский прием — ассоциативная метафора, выявляющая скрытое в героинях, — базируется на перекличках смыслов. Зоометафоры, существуя в тексте как во-площенное/развоплощенное, прочерчивают сюжет семантическими цепочками — штрихами, по которым в сознании читателя воссоздается целое.
В игре с пушкинской литературной моделью формируются чеховская концепция женского характера и художественные принципы его моделирования.