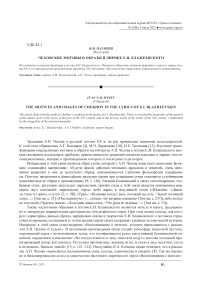Чеховские мотивы и образы в лирике Е.И. Блажеевского
Автор: Наумцев Иван Игоревич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (86), 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследована чеховская традиция в поэзии Е.И. Блажеевского. Выявлена общность мотивов природного цикла в лирике поэта ХХ в. и в прозаических произведениях писателя XIX столетия, обусловленная общностью национального менталитета.
Лирика, е.и. блажеевский, а.п. чехов, традиции, образы природы
Короткий адрес: https://sciup.org/148326660
IDR: 148326660 | УДК: 82-1
Текст научной статьи Чеховские мотивы и образы в лирике Е.И. Блажеевского
Традиции А.П. Чехова в русской поэзии ХХ в. не раз привлекали внимание исследователей. К этой теме обращались А.Г. Бондарев [4], М.Ч. Ларионова [10], Н.Е. Тропкина [12]. Изучение трансформации определённых мотивов и образов малой прозы А.П. Чехова в поэзии Е.И. Блажеевского вызвано желанием исследовать проблему преемственности традиций писателя-классика в лирике «поэта-семидесятника», интерес к произведениям которого в последние годы возрос.
Интересным в этой связи является образ степи, который у А.П. Чехова чаще всего выполняет функцию «ландшафта настроения»: «будучи фоном действия чеховских рассказов и повестей, степь неизменно вырастает в них до целостного образа, наполняющегося глубоким философским содержанием. Поэтому настроения и философские раздумья героев при созерцании степи становятся устойчивыми компонентами ее образа в произведении» [9, с. 146]. Евгений Блажеевский в своих стихотворениях, изображая степь, регулярно использует параллелизм, причём степь в этой связи является неизменным маркером двух состояний: лирическому герою любо жарко в полуденной степи («Шмелёв»: «Дышала степь и горячо, и сухо» [3, с. 98]; «Урал»: «Исщипан воздух весь, похожий на золу, / Бежит волчицей степь…» [Там же, с. 53]; «Постскриптум»: «…степью, что ветрами сожжена» [Там же, с. 237]), либо холодно в ночной («Чувство покоя»: «Холодная дикая степь, / Что руки ее ледяные…» [Там же, с. 53]).
Также частотными образами в поэзии Е.И. Блажеевского являются метель и вьюга, традиционно в литературе маркирующие пространство отчуждённости героя. При этом мотив холода, для которого характерны данные образы, неразрывно связан в творчестве Е.И. Блажеевского с мотивом странствия во времени, осознанием (с точки зрения героя) своих координат в рамках человеческой истории. Интересно в этой связи стихотворение «Воспоминание о метели», которое перекликается с рассказом А.П. Чехова «Студент». В экспозиции произведения автор создаёт атмосферу неуютной пустоты, окружившей героя с исчезновением тепла, что подчёркивается резко наступившей безжизненной тишиной, ощущением одиночества: «Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой» [15, с. 121–122]. Неслучайно К.А. Кочнова также отмечает, что в рассказах А.П. Чехова «выявляется ассоциативная связь холода, одиночества и смерти» [8]. Так же внезапно и бескомпромиссно холод и одиночество настигают лирического героя «Воспоминания о метели»:
Мокрый снег. За привокзальным садом Темнота, и невозможно жить, Словно кто-то за спиной с надсадом Обрубил связующую нить.
Мертвый час… [2, с. 112].
Даже процесс замерзания и сопутствующие мысли лирического героя представлены с особым вниманием к деталям, которые также присутствуют в рассказе А.П. Чехова: описание замёрзших рук и лица («Мерзнут руки, промерзает взгляд...» – в стихотворении [2, c. 112], и «У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо» – в рассказе [15, c. 121]), ощущение разобщённости, потери согласия и отчасти одиночества («Что-то волчье есть в моей дороге – / В темноте да на ветру сквозном!..» [2, c. 112] – в стихотворении, и «Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно» – в рассказе [15, c. 121]). Наконец, оба героя осознают себя через временну́ю координату: «И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре» [Там же, c. 124] – пишет А.П. Чехов; «Вдоль пустынных улиц Оренбурга / Я бреду, как двести лет назад» [2, c. 112] – как бы вторит ему лирический герой Е.И. Блажеевского. Оба героя не хотят идти домой, оба размышляют в холодном пространстве и оба находят удивительно схожие тёплые мысли, согревающие их. Иван Великопольский осознаёт вневременное единение человечества, которое является чем-то большим, чем просто преемственностью поколений. Об этом также говорит исследователь творчества писателя В.Б. Катаев: «<...> «Студент» (отчасти – “Дама с собачкой”), полностью посвящены преодолению разобщенности, нахождению общего и единого понимания вещей и явлений» [7, с. 326]. Понимание того, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле» [15, c. 123], согревают душу молодого студента, уже не обращающего внимания на суровый холод. Вероятно, такую же теплоту ощущает лирический герой стихотворения «Воспоминание о метели»:
Но, уйдя в скорлупы да в тулупы, Жизнь течет в бушующей ночи. Корабельно подвывают трубы, Рассекают стужу кирпичи.
И приятно мне сквозь проклятущий, Бьющий по лицу колючий снег Видеть этот медленно плывущий Теплый человеческий ковчег... [2, с. 112].
При этом оба произведения наполнены христианским пониманием времени и единения человечества: если в рассказе А.П. Чехова христианские мотивы и образы выводятся на первый план, то в стихотворении Е.И. Блажеевского к ним отсылает образ объединяющего «человеческого ковчега». Следует заметить, что подобные мотивы и образы, перекликающиеся с рассказом А.П. Чехова «Студент», встречаются у поэта довольно часто. Так, например, в стихотворении «Октябрь» образы холодного ветра и «унылого» дождя также создают пустое и «обезжизненное» пространство, в котором лирический герой ощущает не только одиночество, но и неумолимый бег времени:
Когда вокруг пугает пустота И кажется, что время убывает, Когда в пространстве правит простота, С которой холод листья убивает, <…> Я в комнате своей сижу один… [3, с. 150].
При этом в начале стихотворения время воспринимается героем как что-то личное, именно потому он печален, что подчёркивается с помощью параллелизма (холодный ветер, «унылый» дождь, «согбенная» берёзка и т. д.). Однако в последних четверостишиях высказывается неожиданное, на первый взгляд, заключение: «Но все-таки приятен этот вечер…» [3, c. 150]. В этих строках становится понятно, что фокус мыли лирического героя переходит с времени «личностного», на время всеобщее, характеризующее бесконечность не только природы, но и человечества: «А дождь идет, и нет ему конца, / И нет конца житейской круговерти» [Там же].
Важно более подробно рассмотреть образ корабля в поэзии Е.И. Блажеевского, который почти всегда, как бы выражая преемственность литературных традиций, символизирует жизнь в её человеческой общности. При этом «корабль» в творчестве поэта чаще всего выступает проводником отрицательных коннотаций –, исключением является вышерассмотренный «ковчег» –, что (но не только это) позволяет провести сопоставительный анализ по данному признаку стихотворения Е.И. Блажеевско-го «От мировой до мировой» [3, c. 77] и рассказа А.П. Чехова «Гусев» [13, c. 76–90]. Н.В. Капустин замечает, что «образ плывущего в Одессу парохода в рассказе А.П. Чехова символизирует жизнь с ее социальной полярностью, жесткостью, неопределенностью движения, приводящего, однако, человека к известному неизбежному итогу» [6, с. 24]. Это же, на наш взгляд, справедливо, с некоторыми оговорками, и для «корабля» в стихотворении Е.И. Блажеевского «От мировой до мировой». В нём поэт подводит итоги XX века, ужасаясь главной интенцией человечества в этот период:
И вот совсем немного лет
Осталось до скончанья века, В котором был один сюжет: Самоубийство Человека [3, с. 77].
Именно этот век сравнивается здесь с кораблём, что само по себе является художественным штампом, к которому поэт сознательно прибегает, чтобы подчеркнуть своё разочарование в «ничтожном» веке. У А.П. Чехова в рассказе «Гусев» данный образ, безусловно, становится развёрнутой метафорой жизни, вбирая в себя не только общие экзистенциальные, но и более частные (например, социальные) аспекты человеческого бытия. Писатель создаёт атмосферу безысходности, ужаса, окутавшую идущий в темноту корабль. Заметим, что повествование идёт от лица главного героя, а после его смерти рассказчик повествует как бы находясь внутри пространства корабля в то время, как лирический герой Е.И. Блажеевского наблюдает за кораблём со стороны, провожая век:
Но я, смотря ему вослед,
Пойму, как велика утрата. И дорог страшный силуэт Стервятника в дыму заката!.. [Там же].
Однако в обоих случаях корабль везёт военных: пароход с отставными больными – в рассказе, и эсминец – в стихотворении. При этом поэт, в отличие от А.П. Чехова, открыто выражает своё отношение к данному образу, используя яркие эпитеты и разговорную лексику:
И если образ корабля
Уместен в строчке бесполезной, То век - корабль, но без руля И без царя в башке железной [Там же].
Объединяет эти, на первый взгляд непохожие, вариации одного образа соотнесённость с мотивом (именно мотивом) смерти: в рассказе «Гусев» подробно описывается процесс «избавления» от трупов на примере не только главного героя, но и его попутчиков; в стихотворении автор также акцентирует на этом внимание:
В кровавой пене пряча киль, Эсминцем уходя на Запад, Оставит он на много миль
В пустом пространстве трупный запах [3, с. 77].
Так, образ корабля в данных примерах используется как метафора человеческой жизни (в стихотворении – жизни в XX в.). Оба автора с большим вниманием к художественным деталям с его помощью обращаются к мотиву смерти: у Е.И. Блажеевского – как к ужасному уроку своего века, у А.П. Чехова – как к неотвратимому итогу жизни.
Наконец, пожалуй, самым частотным в творчестве Е.И. Блажеевского является мотив «жизнео-конченности», когда поэт через лирического героя подводит итог жизни, задаваясь при этом философскими вопросами, размышляя на метафизические темы человеческого бытия. При этом данный мотив неизменно связан у поэта с чувством разочарования в прожитой жизни и мироустройстве. Подобные мысли посещают, хотя и в нарочито иронической манере, главного героя рассказа А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда» Иванова Якова Матвеича [14, c. 475–483]. Яков, похоронив супругу и осознавая свою скорую кончину, размышляет о неустроенности своей судьбы и жизни в целом. Следует заметить, как органично А.П. Чехов выводит читателя на размышления о важных экзистенциальных вопросах, отталкиваясь от картины быта: «искусство подняться от прозы подчеркнуто будничного существования к философским обобщениям является, видимо, одним из главных секретов всей чеховской художественной системы» – замечет Г.П. Бердников, исследователь творчества писателя [1, с. 131]. В этих размышлениях скупого, одержимого одной лишь упущенной выгодой героя, звучат важные вопросы: «впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад – там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? <…> Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки!» [14, c. 479]. Подобные размышления выражаются лирическим героем венка сонетов Е.И. Блажеевского «Осенняя дорога». Следует сразу же оговориться: лирический герой данного венка сонетов является выражением авторского «Я», поэтому его мысли отмечены большей глубиной и метафоричностью, чем у главного героя «Скрипки Ротшильда». Однако общая мыслительная интенция героев – подведение итогов жизни, ощущение её неустроенности и неудовлетворение прожитой судьбой – выражаются с помощью схожих образов. Так, например, в рассказе А.П. Чехова Яков хоронит супругу, а после заболевает и умирает в начале мая – герои не доживают до старческого «лета», когда можно наслаждаться жизнью, никуда не спеша. Лирический же герой в произведении Е.И. Бла-жеевского (действие происходит поздней осенью) горюет об утраченном «лете»:
Захотелось щекою к продрогшей природе припасть И вдогонку тебе, моя жизнь, прошептать: «Почему же
Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть?..» [3, с. 240]
Это выражается и в прямой речи: «Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку» – говорит Бронза. В стихотворении же звучит печальный вывод: «Никому не дано этой жизнью насытиться всласть, / И судьба на ветру воробьиного клюва короче» и «И тогда я увидел за черной чертой переезда, / Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась...» [Там же]. Примечательно, что оба героя осознают, хоть и в разной мере, своё одиночество, находясь при этом в браке. Однако герой Е.И. Блажеевского видит в своём супружестве навязанные судьбой и долгом ограничения:
Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр, Там округлая форма реки, заточенной в трубу. И по ней не плывут корабли, а ленивые рыбы Не стоят косяком, на крючок направляя губу.
И течет твоя кровь, в темноте замедляя движенье, По гармошкам бормочет, стоящих в дому батарей, И семью согревает железное кровоснабженье, Целиком поглощая все замыслы жизни твоей [3, с. 240].
В то время как Яков сам является причиной своего одиночества, т. к. именно он отчуждённо и грубо общается (или вернее сказать взаимодействует) с женой: «для мира, в котором живут чеховские герои, полного дисгармонии, “ярлыков”, социальных и психологических барьеров, “общих идей”, потерявших всякий кредит, само общение становится проблемой» [11, с. 172]. При этом все его «замыслы жизни» умещаются в тетрадь, куда он записывает свои убытки. Следует отметить, что в венке сонетов «Осенняя дорога» используется более характерное поэтике данного произведения синоним нарочито сухого и безжизненного слова «убытки» – «потери»:
И тебе самому твой угрюмый характер несносен;
Только как разобраться в потерях и кто виноват? [Там же].
Кроме того, нельзя не сказать о важной мысли, высказанной А.П. Чеховым в рассказе «Скрипка Ротшильда»: «Гepoй «Cкpипки Poтшильдa», нaдeлённый мyзыкaльным дapoм, coчинил пepeд cмepтью мeлoдию, в кoтopyю влoжил cвoи нeдoyмeнныe, и пeчaльныe вoпpocы; в иcпoлнeнии дpyгoгo мyзы-кaнтa oнa звyчит тaк yнылo и cкopбнo, чтo cлyшaтeли плaчyт. Pacтpeвoжeннaя дyшa пpoбyдившeгocя чeлoвeкa пpoдoлжaeт жить в иcкyccтвe и бyдит бecпoкoйcтвo в людяx» [5, с. 188]. Искусство это, изображённое в виде музыки в рассказе, очевидным образом становится мыслеструктурирующим мотивом в венке сонетов, где лирический герой даже рассуждает о своей жизни, используя характерные метафоры и сравнения: «Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась, / Запишу на полях своей повести небезупречной, / Где нескладный герой, от насущных забот удалясь, / Пребывает в тоске и бессмысленной муке сердечной», «И душе тяжело состоять при раскладе таком, / Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр», «И слова из романса: “Мне некуда больше спешить...” / Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера» и т. д. [Там же]. Наконец, вывод о глубоком синкретизме подлинной жизни и искусства, высказанный А.П. Чеховым, подтверждается на практике историей венка сонетов Е.И. Бла-жеевского «Осенняя дорога», чей магистрал благодаря своей искренности и напевности был положен на музыку, став знаменитым романсом «По дороге в Загорск», от которого до сих пор «слушатели плачут».
Таким образом, в поэзии Евгения Ивановича Блажеевского присутствует множество мотивов и образов, характерных для прозы Антона Павловича Чехова. Зачастую данные мотивы и образы сильно видоизменяются в лирике поэта: более всего это заметно в отношении автора (через отношение лирического героя) к изображаемым образам, которое выражается в использовании эмотивной лексики, что характерно для поэзии Е.И. Блажеевского.
Список литературы Чеховские мотивы и образы в лирике Е.И. Блажеевского
- Бердников Г.П. Социальное и общечеловеческое в творчестве к Чехова // Вопр. лит. 1982. № 1. C. 131.
- Блажеевский Е. Воспоминание о метели: стихотворение // Башня: альманах / редактор Вячеслав Моисеев; науч. ред. Л. Бураков; Союз российских писателей, Оренбургское региональное отделение, Союз литераторов Оренбуржья. Оренбург: ОГИМ, 2006. С. 112.
- Блажеевский Е.И. Письмо: по праву памяти / под ред. Е.Л. Бершина. М.: Арт-Хаус Медиа, 2015.
- Бондарев А.Г. Мифологема «Вишневый сад» в поэзии Т. Кибирова // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 3. № 5. С. 49–53.
- Бялый Г.А. Антон Чехов // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980–1983. Т. 4. С. 177–210.
- Капустин Н.В. О библейских цитатах и реминисценциях в прозе А.П. Чехова конца 1880–1890-х годов // Чеховиана: Чехов в культуре XX века. М.: Наука, 1993. С. 17–26.
- Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М.: Изд-во МГУ, 1979.
- Кочнова К.А. «Пейзаж-метель» в языковой картине мира А.П.Чехова // Электрон. науч.-практич. журнал «Филология и литературоведение». 2015. № 3. [Электронный ресурс]. URL: https://philology.snauka.ru/2015/03/1151 (дата обращения: 10.01.2022).
- Криницын А.Б. Семантика образа степи в прозе Чехова // Молодые исследователи Чехова. М.: Изд-во Московского университета, 1998. Вып. 3. С. 145–146.
- Ларионова М.Ч., Тропкина Н.Е. «Чеховская декорация»: «Вишневый сад» в русской поэзии XX – начала XXI века // Аnnales instituti slavici universitatis debreceniensis Slavica XLIX. Debrecen university press, 2020. С. 75–83.
- Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П. Чехова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.
- Тропкина Н.Е. Каштанка в прозе и поэзии // Личная библиотека А.П. Чехова: литературное окружение и эпоха: сб. материалов междунар. науч. конф. (г. Таганрог, 14–15 сент. 2015 г.). Ростов н/Д: Foundation, 2016. С. 231–237.
- Чехов А.П. Гусев // Авторский сборник «Дама с собачкой». М.: АСТ, 2015. С. 76–90.
- Чехов А.П. Скрипка Ротшильда // Авторский сборник «Человек в футляре. Избранное». М.: Азбука-Аттикус, 2019. С. 475–483.
- Чехов А.П. Студент // Антология антологию «МиМические свитки». М.: Паровая типолитографія А.А. Лапудева, 2020. С. 121–124.