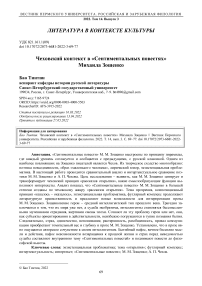Чеховский контекст в «Сентиментальных повестях» Михаила Зощенко
Автор: Бао Тинтин
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
«Сентиментальные повести» М. М. Зощенко выстроены по принципу пирамиды, где каждый уровень согласуется и сообщается с предыдущими, с русской классикой. Одним из наиболее повлиявших на Зощенко писателей является Чехов. Их творческое сходство многообразно: поэтика повседневности, образ «маленького человека», лирический юмор, экзистенциальная проблематика. В настоящей работе проводится сравнительный анализ и интертекстуальное сравнение поэтики М. М. Зощенко и А. П. Чехова. Цель исследования - выявить, как М. М. Зощенко цитирует и трансформирует чеховский принцип «рассказов открытия», какие смыслообразующие функции выполняют интертексты. Анализ показал, что «Сентиментальные повести» М. М. Зощенко в большей степени созданы по чеховскому жанру «рассказов открытия». Тема прозрения, композиционный принцип «казалось - оказалось», экзистенциальная проблематика, футлярный комплекс продолжают литературную преемственность и предлагают новые возможности для интерпретации прозы М. М. Зощенко. Зощенковские герои - средний интеллигентский тип прошлого века. Трагедия заключается в том, что их мира уже нет, а судьба необратима, интеллигенты становятся бессмысленными мучениками страдания, жертвами смены эпохи. Сознают ли эту проблему герои или нет, они, как субъекты ориентирования в действительности, неизбежно погружаются в тупик познания бытия. Следовательно, страх, одиночество, непонимание, растерянность, разобщенность, провал коммуникации приобретают томительный вес и глубину в прозе М. М. Зощенко. Установлено, что в прозе явно ощущается авторское сочувствие к своим интеллигентам. Бытийный пафос, вечное бессилие мысли и действия, пафос невозможности возвращения к прошлой жизни и страх перед неведомостью судьбы составляют внутреннюю тему «Сентиментальных повестей» и поднимают повести до философской высоты.
Экзистенциальная проблематика, тема «открытия», футлярный комплекс, интертекстуальность, интертекст, «сентиментальные повести», м. м. зощенко, а. п. чехов
Короткий адрес: https://sciup.org/147238643
IDR: 147238643 | УДК: 821.161.1(09) | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-69-77
Текст научной статьи Чеховский контекст в «Сентиментальных повестях» Михаила Зощенко
Говоря о наиболее повлиявших на Зощенко писателей, нельзя не назвать Чехова. «Зощенко, как писатель, является своего рода новым первичным Чеховым: Чехонте. Несмотря на разницу в эпохах, родство Зощенки с Чехонте мне кажется очевидным» [Анненков 1991: 313]. Творческое сходство писателей многообразно: поэтика повседневности, новаторство в литературном языке («работа с бытовыми и литературными штампами» [Жолковский 1999: 175]), образ «маленького человека», лирический юмор, экзистенциальная проблематика, медицинские темы (в произведениях Зощенко и Чехова представлен общий феномен «шарлатанов от медицины» [Болдырева 2021: 167]). Литературная связь Зощенко и Чехова проявляется не только в широком типологическом, но и в узком интертекстуальном аспекте. Наиболее наглядны сюжетные и мотивные реминисценции. Фабула в «Бедной Лизе» Зощенко взята из чеховской «Душечки», «Дама с цветами» представляет собой пародию на «основные знаковые характеристики чеховских персонажей и общий сентиментально-возвышенный настрой “Дамы с собачкой”» [Колева 2013: 155].
Взаимодействие автора с предшественниками традиционно рассматривается как «проблема литературных влияний, реминисценций, сюжетных интерпретаций» [Лушникова 1995: 5]. В частности, само явление цитации и трансформации «чужих» текстов именуется в настоящее время термином «интертекстуальность». Эта концепция выдвинута Ю. Кристевой. Исследовательница пишет: «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста» [Kristeva 1981: 66]. Однако, чтобы понятие интертекстуальности смогло остаться действенным аналитическим инструментом, мы обратимся к теории И. В. Арнольд, которая под интертекстуальностью понимает «включение в текст целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий [Арнольд 1999: 351].
В настоящей работе мы анализируем в прозе Зощенко те места, которые должны отсылать читателя к творчеству Чехова и поднимаемым в нем вопросам: теме любви и страха, символической ассоциативности предметов, экзистенциальным проблемам и пр. Цель исследования – выявить, как М. М. Зощенко цитирует и трансформирует чеховскую традицию, какие смыслообразующие функции выполняют интертексты.
Материал и методы исследования
Материалом послужили «Сентиментальные повести» М. М. Зощенко и такие произведения
А. П. Чехова, как «Три сестры», «Человек в футляре», «Тапер», «Упразднили!» и т. п. Для решения задач исследования использовались типологический, интертекстуальный методы.
Актуальность исследуемой проблемы
Актуальность исследования обусловлена тем, что сопоставление поэтики Зощенко и Чехова еще остается малоизученным во всей своей полноте и сложности исследовательским вопросом, с учетом межтекстового компонента.
Результаты исследования и их обсуждение
В произведениях Зощенко и Чехова заметна общая ситуация любовного свидания – rendezvous (рандеву) . У Чехова тема любви, как правило, связана с треугольником, уходом (или желанием ухода) женщины от мужа к другому мужчине. По этой фабульной линии построены «Несчастье», «Страх», «О любви», «Дама с собачкой» и пр. Большинство любовных историей связаны со светлой грустью и заканчиваются трагедией. К чеховскому рандеву близко зощенковское, которое реализовано мотивом «ухода женщины к другому», причем этим другим нередко оказывается более сильный мужчина, в частности сосед. Тамара вышла замуж за иностранного коммерсанта («Аполлон и Тамара»); Нина Осиповна убежала от мужа к заведующему хлебопекарней («Люди»); Домна Павловна выбрала военного телеграфиста («Коза»); Симочка жила с заведующим кооперативом («Мишель Синягин»).
При внимательном сопоставлении карьер мужчин можно обнаружить, что женщина выбирает не любовь, а «хлеб». С точки зрения женщины, стабильная семейная жизнь основана на надежной карьере мужчины. Причина ухода Нины Осиповны от мужа к заведующему хлебопекарней косвенно свидетельствует о жизненной ценности питания. Оно предстает «эмблемой жизни, счастья и покоя» [Жолковский 1999: 134]. Мотив еды становится «мерилом определения любовного чувства» [Обухова 2011: 30]. Если чеховские рандеву-драмы выражают разнообразные мировоззренческие взгляды на любовь по принципам «индивидуализации каждого конкретного случая» [Сухих 2007: 254], то зощенковские, напротив, лишь предлагают формулу любви. Сопоставление «слабого» мужа и «сильного» мужчины не просто сводится к любовной истории. Это сопоставление двух типов жизни, двух форм существования. Смена партнера означает смену жизненной позиции. Оппозиция между мужчинами – оппозиция прошлого и настоящего, старого и нового. Любовь у Зощенко шаб-лонна, формальна. Обсуждение брачных отношений практически есть философское размыш- ление над проблемой бытия, над тем, какую форму существования можно выбрать.
У Зощенко «слабый» муж и его «сильный» соперник обычно находятся в состоянии антагонизма, но иногда они оказываются двойниками . Уход жены заставляет Ивана Ивановича совершить возмездие соседу, в итоге объектом мести становится собака. Драка героя с собакой опосредованно показывает пробуждение в нем зверя, он становится сильным и беспощадным. Амбивалентное снятие противопоставления слабого мужа и сильного антагониста возможно «путем превращения “слабого” в “сильного”» [Жолковский 1999: 99]. В этом процессе мотивы оборот-ничества и двойничества связаны с мотивом страха. Животное начало Ивана Ивановича демонстрирует его попытку преодолеть страх перед сильным соседом и вернуть себе семейное счастье.
В рандеву Чехова пейзаж (ночной сад, чистый воздух, лунное сияние, прошедший дождь...) обычно изображен в лирической интонации. Ситуация рандеву Чехова, «...даже когда повествование ведется в настоящем времени, имеет привкус воспоминания, всегда придающего сюжету печально-ностальгический оттенок...» [Сухих 2007: 261]. В зощенковском рандеву место любовного свидания – романтическое тихое пространство: сад, бульвар, сквер, берег моря... Любовная ситуация изображается то в меланхолической мелодике с сентиментальными воспоминаниями («Аполлон и Тамара», «Мишель Синя-гин»), то в патетическом тоне с пародийным оттенком («О чем пел соловей», «Сирень цветет»). Например, в повести «Сирень цветет»: «Они уходили по вечерам на озеро и там, на высоком берегу, на скамейке, а то и просто на траве под сиренью сидели, нежно обнявшись, переживая каждую секунду свое счастье» [Зощенко 2008: 192].
В «Аполлоне и Тамаре» есть сюжетная реминисценция из «Тапера» Чехова. Оба героя – музыканты, играющие на балах. У них общий комплекс неполноценности мотивирован ничтожностью социальной идентичности либо неуважением окружающих. «Не так ли? Что я такое? Тапер, прислуга... официант, умеющий играть!..» [Чехов 1976: 205]. «В этот момент Аполлон Перепенчук понял, какой он, в сущности, незначительный еще и мизерный человек» [Зощенко 2008: 20]. Отрывки можно интерпретировать с точки зрения переживания «маленького человека» в связи с незначительным социальным положением. Но наш акцент расставлен по-другому. Мы видим философский «сдвиг в сознании человека» [Катаев 1979: 11], т. е. ситуацию «открытия». Данное наблюдение позволяет расширять направления и темы для дальнейшего сопоставления.
В книге В. Б. Катаева выделены следующие черты чеховских «рассказов открытия»: 1) прозрение и отрицание прежних привычных, поверхностных убеждений о жизни; 2) композиционный принцип « казалось – оказалось» ; 3) человек как «субъект познания, субъект ориентирования в действительности» [там же: 87]; 4) футлярный комплекс, экзистенциальные мотивы. Заметим, что именно по художественному принципу жанра «рассказов открытия» созданы «Сентиментальные повести» Зощенко. Л. А. Посадская отметила, что внутри цикла повестей «можно (с определенной долей условности) выделить несколько типов сюжетов: философские – о смысле жизни, роли случая и судьбы, о прозрении...» и «бытовые» [Посадская 2013: 9]. На самом деле большинство этих типов могут быть включены в одну фабулу открытия либо прозрения. Жизнь для чеховских героев в цикле «рассказов открытия» враждебна, «представления любого героя о ней обнаруживают свою упрощенность, оборачиваются иллюзией» [Катаев 1979: 19]. Замечание В. Б. Катаева также уместно для оценки интеллигентов Зощенко, которые «были выброшены революционным вихрем из колеи жизни и было трудно найти себе место в обществе» [Гу Вэйцзе 2012: 210].
Аполлон – свободный художник, тапер, типичный романтический мечтатель. О его склонности к пребыванию в мире грез свидетельствует творчество: «Нахлынувшие на меня мечты» и «Фантазии реаль». Герой любит мечтать о счастье, о несбыточных карьерных планах: стать известным музыкантом, отважным авиатором, изобретателем, путешественником, хирургом. Он живет замкнуто, в одиночестве. Романтика затворнической жизни становится почвой для его фантазий. Он уверен в достижении успехов, но эти желания не сбылись. Проблема не в конфликте между мечтой и реальностью, а в сложности самой жизни. Она была украшена иллюзиями Аполлона, но революция уничтожила его фантазию. Само революционное преобразование не делает жизнь жестокой, а лишь раскрывает истинную, безжалостную ее сущность под обманчивой маской.
Аполлон, понимая жестокость бытия, впервые задумывается о том, как правильно жить. Его прозрение оказывается отрицанием наивных иллюзий и рефлексией о бессмысленности уходящей жизни: «...прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым прославленным человеком» [Зощенко 2008: 28–29]. Стоит почеркнуть, что Зощенко, как Чехов, убил не надежды, а наивные иллюзии. Аполлон, подобно субъекту познания в «рассказах открытия» Чехо- ва, занят осмыслением жизни, но бессилен в ней ориентироваться: «Только что живет по-выду-манному. А ему нужно по-другому жить... Но как нужно было жить, <...> он не знал» [Зощенко 2008: 32]. Бессилие разобраться в жизненных вопросах ведет к неспособности в выборе действия и невозможности вырваться из заколдованного круга. Прозрение повлечет не душевное успокоение, а мучение и дисгармонию. Переход Аполлона к новому видению осуществлен с помощью композиции «казалось – оказалось»: «Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным» [Зощенко 2008: 22]. «Он чувствовал какой-то испуг перед неведомой ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, что жизнь – это какая-то смертельная борьба за право существовать на земле» [там же: 65].
Не менее серьезным выглядит открытие, которое делает Белокопытов («Люди»). Неудачные попытки устроиться на работу заставляют Белокопытова понять бесполезность дворянского образования (владение испанским языком) и открывают ему глаза на реальность: «Он, оказывается, ничего не умеет и ничего не может, и что об этом он еще никогда не задумывался» [там же: 63]. Тема «открытия» развернута в сюжете «казалось – оказалось». Гносеологический поворот приносит Белокопытову беспокойство, даже влечет деградацию личности. В пучине бедствий герой, потеряв доброе начало, постепенно превращается в торговца, склонного к обману покупателей. Он смиряется и утверждает новую – циничную – философию жизни: «Цинизм – это вещь, совершенно необходимая и в жизни нормальная…» [там же: 71].
Аналогичная ситуация описывается в «Страшной ночи». Котофеев вел обыденную, стабильную жизнь. В результате беседы с бывшим помещиком и учителем чистописания он опровергает свое поверхностное, привычное представление о жизни, задумывается о случайности, нетвердости существования. Прозрение приводит к хаосу: «Какое-то неясное беспокойство овладело им» [там же: 103]. Хаос проявлен не только в психологической тревоге, но и в беспорядочном поведении. Борис Иванович «закричал», просил милостыню, «...с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу...», «...был смертельно бледен и дрожал всем телом» [там же: 110–112].
В повести также очевидны сюжетные и мо-тивные реминисценции из «Упразднили!» Чехова. Как полагает С. Г. Боровиков: «Завязка фабулы “Страшной ночи” почти повторяет рассказ Чехова “Упразднили!”...» [Боровиков 2015: 558]. Изображение портрета тревожной, недоумевающей души героев перед возможной отменой профессии / отменой чинов рифмуется. У Чехова: «Проводив землемера, упраздненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать» [Чехов 1975: 224]. «Через два часа он приехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым выражением ужаса на лице... Жена, пораженная его видом, забросала его вопросами, но на все вопросы он отвечал только маханием руки...» [там же: 227]. У Зощенко: «И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате. Страшное волнение охватило его» [Зощенко 2008: 108]. «А когда ему напоминали об этих подробностях, он конфузливо махал руками, упрашивая не говорить об этом» [там же: 113].
В. Б. Катаев отметил: «Герои Чехова-юмориста живут в строго регламентированном мире, где любое действие должно умещаться в ячейку той или иной знаковой системы, <...> будь то упразднение чинов или реформа орфографии, это для него равносильно жизненной катастрофе» [Катаев 1979: 49–50]. Замечание исследователя в той или иной степени справедливо, однако с ним нельзя полностью согласиться. Страх Вывертова спровоцирован не столько упразднением чинов либо крушением регламентацией, сколько неожиданным случаем, непрочностью существования. Вот почему он говорит не без тревожного сомнения: «Не упразднили ли уж и солнца?» [Чехов 1975: 227]. Страх Вывертова – это своего рода экзистенциальная эмоция боязни случайности, находящая аналог в «Страшной ночи»: «Не в том, Луша, дело, что попрут, <...> – А в том, что превратно все. Случай...» [Зощенко 2008: 107].
Котофеев – чеховский «человек в футляре», боящийся случайности. Тревожно-боязливый темперамент героя напоминает о лейтмотивной фразе Беликова: «Да как бы чего не вышло» [Чехов 1977: 43]. Чеховские инварианты «футлярно-сти» – «мотивы ограниченности, окостенелости, порочной повторяемости, страха перед жизнью, желания защититься от нее условностями и штампами, прижизненного омертвения и преждевременной смерти и т. д.» [Жолковский 1999: 179] – могут говорить о литературной преемственности. Зощенко варьирует чеховский футлярный комплекс, экзистенциальные мотивы.
Мотивы порядка / беспорядка и покоя / беспокойства прослеживаются почти во всех повестях. Размышление о нетвердости мирового порядка приносит Котофееву беспокойство («Страшная ночь»). Поиск Володиным перспективного брака ассоциируется с его стремлением к покою и порядку («Сирень цветет»). Мечта Забежкина («Коза») о козе мотивирована желанием об идиллической, гармоничной жизни.
Заметим, что хаос, связанный с мотивом беспокойства, проявлен и в языковом хаосе повест- вователя / персонажей. В рукописи «Мишеля Синягина» несколько авторских поправок направлены на «дисгармонизацию повествования» [Чудакова 1979: 67]. По мнению Ю. К. Щеглова, в художественном мире Зощенко доминантна «некультурность», в частности «антилитератур-ная речь», «некультурность зощенковского героя представляла собой, собственно говоря, довольно широкий комплекс психологических черт и экзистенциальных установок...» [Щеглов 1994: 237]. Языковой хаос является ключом к пониманию психологических механизмов персонажей, он есть внешнее выражение внутренней дисгармонии. Типичным примером является повествование Коленкорова, полное излома формулировок и семантического алогизма. Анахронизм Ко-ленкорова, т. е. использование названия «Ленинград» вместо «Петроград» в эпоху НЭПа в «Мишеле Синягине» показывает его психологический темперамент, равнодушие к современности, разрыв во времени, главное – это человек, живущий в прошлом, а не настоящем. В варианте 1936 г. была логически запутанная фраза: «Если человек не помрет, то опасных явлений на всю жизнь не остается» [Зощенко 1930: 73]. «Зощенковский герой весьма смутно представляет себе точное значение употребляемых им слов и выражений» [Сарнов 1994: 62]. Этот речевой феномен может быть объяснен в экзистенциальных измерениях. «Ненадежность жизни определяет ненадежность повествовательной манеры» [Жолковский 1999: 60]. В поворотный период дисгар-монизацию речевой конструкции демонстрирует беспорядочность существования, торжество хаоса над космосом.
Описание Зощенко экзистенциальной ситуации дано как бы реминисценциями из «Трех сестер» Чехова, где преобладает «тема “ориентирования” человека в жизни» [Катаев 1989: 205]. В этой пьесе Чехов, погружая своих героев в экзистенциальную ситуацию, показывает, что «судьба на мгновение посылает надежду и тотчас отнимает» [Хайнади 2015: 144]. Перед каждым героем стоит общечеловеческий вопрос: «Как жить?». Из их размышлений выстраивается основная цепочка: опровержение прежнего мировосприятия, переосмысление смысла бытия, неудачная попытка постичь сущность жизни, разрушенные ожидания. Вместе с этим – страх, одиночество, непонимание, растерянность, разобщенность, провал коммуникации.
Эти же явления носят всеохватывающий характер в повестях Зощенко. Его интеллигент – субъект познания, большинству из героев, как Котофееву, «необходимо чувствовать, что жизнь его имеет смысл , что он чем-то прикреплен к жизни , к мирозданию, к самим основам бытия»
[Сарнов 2005: 218]. Так, «Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует»; «Как надо жить человеку» [Зощенко 2008: 31]; «Живет по-выдуманному. А ему нужно по-другому жить...» [там же: 32]; «Как живут люди и в чем их существование» [там же: 33]; «Не все люди имеют право существовать» [там же: 73]; «Как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?» [там же: 107]. Л. А. Посадская полагает, что в «Сентиментальных повестях» «именно в моменты зрелого осмысления ценностей жизни человек погибает» [Посадская 2014: 12]. На самом деле, трагедия происходит не в моменты «зрелого осмысления» бытия, а в моменты приобретения этих возвышенных чувств, не допущенных суровым временем, поскольку «...не стоит искать в жизни какой-то “высший смысл”. Нету в ней никакого “высшего смысла”» [Сарнов 2005: 678–679].
По мнению А. Д. Семкина, Чехов предлагает две телеологические модели: «модель-якорь (убежденность в собственном компетентном знании как и для чего надо жить, дающая уверенность) и модель-вектор (мучительный поиск смысла, устремленность ввысь). Герои Зощенко, от примитивного Васи Былинкина до утонченного Мишеля Синягина – объединены очень важным обстоятельством. Во всех случаях присутствует это модель-якорь, а модель-вектор отсутствует» [Семкин 2018: 6–7]. С нашей точки зрения, Зощенко практически описывает более трагическую ситуацию: «противопоставление судьбы и жизни: судьба непознаваема, а в жизни действуют жесткие в своей определенности законы» [Балашова 2014: 230].
Стремление героев жить по-новому, вырваться из косных обстоятельств в повестях присутствует, однако бессилие в изменении привычной формы существования и преодолении психологической инерции побеждает. В «Мишеле Синя-гине» есть характерный эпизод: какие-то животные при опасности выбрасывают часть своих внутренностей, чтобы жить. Концепция «адаптация для выживания» тонко намекает на трагедию интеллигентов, которые есть средний интеллигентский тип прошлого века. Фраза «Вашего мира не будет» [Олеша 2013: 135], написанная Ю. К. Олешей, как нельзя лучше передает пафос повестей.
При обращении к бытийным вопросам внимание обоих писателей перемещается от объективной реальности к субъективно-созерцательному настроению, от быта к бытию – это характерные черты неореализма. Изображение бытия через быт является важным сходством Зощенко и Чехова, в их предметном мире вещественный знак приобретает метафизическую, идеологическую значимость. «Мир духа в чеховской прозе в каждый момент изображенной жизни не отделен от своей материальной оболочки, слит с него» [Чудаков 2016: 169], вещные детали направлены на невещественные отношения. Данное «овнешнение» внутренней действительности имеет место и в художественной системе Зощенко, где внутренне-сущностное человека внешне-предметно воплощено. Коза представляет утопическую идиллию, знак гарантированного покоя, «коза – это внутренний мир, это душа маленького человека Забежкина» [Синявский 2015: 864]. Забежкин ее кормит, покупает ей цветы, с ней разговаривает. Эти действия как бы показывают, что коза для героя – духовная поддержка.
В повести «О чем пел соловей» влюбленные выдержали испытание перед лицом болезни, однако расстались из-за комода. Комод следует понимать не просто как овеществление любви, а как выражение некой идеологии, метафизический символ прочности бытия. От матери героини мы узнаем, что комод пятьдесят один год стоит на своем месте. Комод сохранился уже как память ушедшей эпохи. «Расстановка по местам» обеспечивает покой, «разумное мироустройство предполагает “правильную расстановку” предметов в соответствии со свойствами и назначением каждого» [Жолковский 1999: 148]. Спор героя и героини об интерьере, расположении комода практически представляет собой проблему сохранения памяти, соблюдения порядка и гарантии душевного покоя.
В «Людях» покупка примуса – «целое торжество», напоминает о торжественном моменте, когда Башмачкин надевает новую шинель. Примус – не только бытовой предмет, но и символ покоя и мечты о счастье. Его потеря перекликается с семейной трагедией Белокопытова и с чужим счастьем. Как полагает Л. А. Посадская: «Примус – это признак определенного достатка, а потом для утратившего все героя – признак домашнего чужого уюта» [Посадская 2013: 13].
Выводы
В заключение отметим, что «Сентиментальные повести» выстраиваются по принципу: «казалось – оказалось», «тогда – теперь», «старый мир – новый мир». Ситуация открытия, тема прозрения в повестях Зощенко часто представлена реминисценциями из прозы Чехова. Подобно «рассказам открытия», в которых «Чехов убивал не надежды, а иллюзии» [Катаев 1979: 217], в повестях Зощенко речь идет о бессмысленности иллюзии.
В «Трех сестрах» говорится «об общественном сдвиге, непосредственно направленном к полному переустройству всех форм старой жиз- ни» [Скафтымов 1972: 434]. Поставленная проблема получила продолжение в повестях Зощенко. Интеллигенты, живущие в переворотный период истории, вынуждены изменить привычные формы существования и даже профессии. В связи с неведомостью, непрочностью судьбы человеку приходится искать некие твердые и прочные основы для перестройки разрушенного духовного мира.
Справедливо замечание С. Г. Боровикова: «Как страшны “Сентиментальные повести” Зощенко, как там силен и заразителен ужас перед жизнью вообще» [Боровиков 2015: 557]. Бытийный пафос, вечное бессилие мысли и действия, пафос невозможности возвращения к прошлой жизни и страх перед неведомостью судьбы составляют внутреннюю тему «Сентиментальных повестей».
Список литературы Чеховский контекст в «Сентиментальных повестях» Михаила Зощенко
- Анненков Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий: в 2 т. М.: Худ. лит., 1991. Т. 1. 346 с.
- Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 444 с.
- Балашова Ю. Б. Тема судьбы и случая в творческой эволюции М. Зощенко // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 226-232.
- Болдырева Е. М. «Шарлатаны от медицины» во «времена великой скорби» в творчестве Лу Синя, А. Чехова, М. Зощенко и В. Шаламова // Ярославский педагогический вестник. 2021. № 2. С. 167-181. doi 10.20323/1813-145Х-2021-2-119-167-182
- Боровиков С. Г. В русском жанре: Из жизни читателя. М.: Время, 2015. 576 с.
- Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. 392 с.
- Зощенко Мих. Сентиментальные повести // Собрание сочинений: в 7 т. М.: Время, 2008. Т. 3. 640 с.
- Зощенко Мих. Сирень цветет // Звезда. Литературно-художественный альманах. Л.: Прибой, 1930. С. 43-76.
- Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М.: Изд-во МГУ, 1979. 326 с.
- Катаев В. Б. Реминисценции в «Трех сестрах» // Литературные связи Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 201-219.
- Колева И. П. «Дама с собачкой» А. П. Чехова и «Дама с цветами» М. М. Зощенко: текст и интертекст // Михаил Зощенко: искусство пародии. Традиции отечественной юмористики XIX века в творчестве М. М. Зощенко. М.: Вече, 2013. С. 149-164.
- Лушникова Г. И. Интертекстуальность художественного произведения. Кемерово.: КемГУ, 1995. 82 с.
- Обухова И. А. «Сентиментальные повести» как этап творческих поисков М. М. Зощенко // Вестник университета Российской академии образования. 2011. № 2. С. 28-32.
- Олеша Ю. К. Прощание с миром. СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2013. 256 с.
- Посадская Л. А. Повседневная жизнь и жизнь духа в «Сентиментальных повестях» М. Зощенко // Государственный литературный музей XX век. Альманах «XX век». СПб.: Островитянин, 2013. Вып. 5. С. 7-18.
- Посадская Л. А. Человек и судьба (социальное и архетипическое) в «Сентиментальных повестях» М. Зощенко // Государственный литературный музей XX век. Альманах «XX век». Вып. 6. СПб.: ООО «Островитянин», 2014. С. 5-14.
- Сарнов Б. М. Развивая традиции Прокруста (Михаил Зощенко и его редакторы) // Вопросы литературы. 1994. Вып. II. С. 45-91.
- Сарнов Б. М. Случай Зощенко. Пришествие капитана Лебядкина. М.: Эксмо, 2005. 704 с.
- Семкин А. Д. К вопросу телеологической парадигме М. М. Зощенко // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2018. № 6. С. 1-8.
- Синявский А. Д. Мифы Михаила Зощенко // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии,2015. С.861-879.
- Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова // Нравственные искания русских писателей. М.: Худ. лит., 1972. С.404-435.
- Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. СПб.: Изд-во Филол. ф-та СПбГУ, 2007. 492 с.
- Хайнади З. Текст. Подтекст. Интертекст. «Три сестры» А. П. Чехова // Русская литература. 2015. № 1. С. 132-146.
- Чехов А. П. Рассказы, повести, 1980-1983 // Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1977. Т. 10. 496 с.
- Чехов А. П. Рассказы, юморески, 1885-1886 // Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1976. Т. 4. 552 с.
- Чехов А. П. Рассказы, юморески. «Драма на охоте», 1884-1885. // Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1975. Т. 3. 624 с.
- Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. 704 с.
- Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М.: Наука, 1979. 200 с.
- Щеглов Ю. К. Энциклопедия некультурности (Зощенко: рассказы 1920-х годов и «Голубая книга») // Лицо и маска Михаила Зощенко. М.: Олимп: ППП, 1994. 366 с.
- Kristeva J. Word, dialogue, and novel // Desire in language: a semiotic approach to literature and art. Oxford: Blackwell, 1981. P. 64-91.
- Gu Weijie. Fengci Youmo Xianqu Zuo Qinke Fanpan Yihuo Zhuisui (Zhongpian xiaoshuoji Ganshang Gushi Lizheng) [The rebellion and the following of the pioneer of satirical humor Zochenko (based on the material of 'Sentimental Tales')]. Qiusuo, 2012, issue 1, pp. 210-212. (In Chin.)