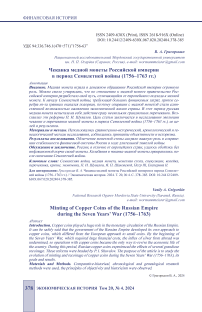Чеканка медной монеты Российской империи в период семилетней войны (1756-1763 гг.)
Автор: Григорькин В.А.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Финансовая история
Статья в выпуске: 4 (67) т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Медная монета играла в денежном обращении Российской империи огромную роль. Можно смело утверждать, что по отношению к медной монете правительство Российской империи разработало свой путь, отличающийся от европейского подхода к мелкой монете. К началу Семилетней войны, требующей больших финансовых затрат, приток серебра из-за границы оказался подорван, поэтому операции с медной монетой стали единственной возможностью оживления экономической жизни страны. В этот период русская медная монета испытала на себе действие сразу нескольких грандиозных перечеканок. Возглавлял эти реформы П. И. Шувалов. Цель статьи заключается в исследовании эволюции чеканки и перечеканки медной монеты в период Семилетней войны (1756-1763 гг.), ее целей и результатов.
Семилетняя война, медная монета, монетная стопа, спекуляции, копейка, перечеканка, кризис, экономика, п. и. шувалов, я. п. шаховской, петр iii, екатерина ii
Короткий адрес: https://sciup.org/147246961
IDR: 147246961 | УДК: 94:336.746.1(470+571)”1756-63” | DOI: 10.24412/2409-630X.067.020.202404.378-385
Текст научной статьи Чеканка медной монеты Российской империи в период семилетней войны (1756-1763 гг.)
Монетная медь прочно утвердилась в русском денежном обращении в начале XVIII в. в ходе монетных реформ Петра I. В отличие от золотой и серебряной монеты, которые были по большому счету повтором западных образцов, по отношению к медной монете в России предпочли пойти своим особым путем [2, с. 127].
В это время существовали два принципиально разных подхода к чеканке монет из недрагоценных металлов. Европейский путь по большому счету состоял в том, что разменная мелкая монета – это всего лишь Знак. Этот Знак удостоверяет, что его владелец обладает частью денежного эквивалента, обозначенной на монете. Более Знак ни к чему не привязан – ни к стоимости металла, ни к его составу. Более того, в ряде регионов Европы (например, в Восточной Пруссии) медной монеты население не знало, чеканилось только серебро. Даже мелкая монета низшего номинала, хотя и была медной, относилась к серебру. Дело в том, что при плавке исходного сырья для производства медных монет туда же отправлялись 2–3 серебряных талера. Таким образом, получившийся сплав переходил из категории меди в категорию серебра (0,062–0,052 пробы, т. е. в одной монете содержалось около 0,035 г серебра).
Диаметрально противоположный подход заключается в том, что означенный на монете номинал должен как-то коррелировать с рыночной стоимостью металла, заключенного в монете. Более того, если химический состав употребленной на производство монеты меди содержит более ценные металлы, то и стоимость монеты должна возрасти. В этом заключается феномен так называемых сибирских денег, которые чеканились из медных руд с остаточным содержанием серебра [5, с. 186–187]. Такого подхода строго придерживались только Россия и Швеция. Рис. 1 дает наглядное представление о том, насколько разнился подход к мелким денежным знакам в разных странах.
В России, при относительно низкой цене на медь (в пределах 6 руб. за пуд), приходилось «раздувать» медную монету: копейка весила около 20 г, а с увеличением размера и массы пропорционально номиналу в ито-

Рис. 1. Русско-шведский и европейский подходы к медной монете наглядно Fig. 1. Russian-Swedish and European approaches to copper coins visually ге получали пятаки массой 50–55 г диаметром около 40 мм [6, c. 198].
Подобный подход был просто неудобен физически – как для пользователей такой «тяжелой» монеты, так и для правительства, которое вынуждено было рассылать произведенную монету по всей стране. В России тогда существовали всего три монетных двора – в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, что создавало дополнительные сложности для чекана.
Материалы и методы
В статье применяются сравнительноисторический, хронологический и генеалогический методы исследования, соблюдаются принципы объективности и историзма.
Обзор литературы
При написании статьи использовались опубликованные источники и научная литература (статьи, монографии). Много опубликованных документов по русской нумизматике содержится в исследованиях Я. В. Адрианова [1] и И. Г. Спасского [8]. Интересные материалы были впервые собраны и опубликованы в альманахе «Кружева и сталь» С. В. Долей [5].
Кроме того, использовалась мемуарная литература (воспоминания А. А. Прозоровского [7], исследование законодательных актов в области монетной чеканки А. А. Богданова [2] и классическое издание Г. В. Елизаветина по истории денег [6].
Результаты исследования
Вступление России в Семилетнюю войну могло оказать оздоровляющий эффект на денежную систему России. К началу 1756 г.

Рис. 2. «Барочная копейка» Fig. 2. “Baroque kopeck”

Рис. 3. Грош (2 копейки) Fig. 3. Grosh (2 kopecks)
выдающимся государственным деятелем графом Петром Ивановичем Шуваловым (1711–1762), фаворитом Елизаветы Петровны и фактически правителем России, была проведена грандиозная работа по упорядочиванию сферы медного обращения. Вся старая монета, оставшаяся от предыдущих царствований, была изъята из обращения, отправлена на монетные дворы и перечеканена по новому образцу, получившему название « барочная копейка » (рис. 2). Оставшийся неизвестным автор дизайна явно был поклонником данного стиля [3, c. 3].
Параллельно с монетной реформой Россия начала втягиваться в войну, расходы на армию и флот резко возросли. Необходимо было пополнить бюджет, и так стабильно дефицитный в мирные годы. Это позволило П. И. Шувалову быстро добиться проведения новой монетной реформы. Она предусматривала перечеканку «барочных» копеек в двухкопеечную монету. Иными словами, сумма медных денег в обращении просто увеличилась почти в 2 раза. Такую двухкопеечную монету называли грош (рис. 3). Указ о реформе был подписан 9 апреля 1756 г., а собственно перечеканка продолжалась несколько лет. В итоге появился новый дизайн с всадником, поражающим копьем змея на одной стороне, и вензелем императрицы на другой. Этот дизайн просуществовал до конца правления Екатерины II [9, с. 234].
Благодаря реформе П. И. Шувалова на первые два года войны бюджет России получил определенную прибыль, а приток денег оживил экономику. Проведенная реформа не имела инфляционного характера.
Объективные проблемы с серебром и золотом (которые сразу же уходили в действующую армию) компенсировались усиленным производством медной монеты. Кроме того, в отличие от предыдущей, данная реформа не имела конфискационного характера. В 1756 г. должникам даже немного сократили недоимки за предыдущие годы [1, с. 75].
Обсуждение и заключение
Медь относилась к материалам стратегически важным, и ее оборот находился под контролем государства. Более половины всего объема выплавки меди направлялось на нужды монетного производства. Каждый слиток меди облагался государственным налогом – десятиной. Оставшиеся 90 % делились на две равные части, одна из которых направлялась государству, по фиксированной цене 6 руб. за пуд. Оставшиеся 45 % шли в свободную продажу на бирже по рыночным ценам.
Данное соотношение не являлось статичным, постоянно шли споры о соотношении сырья, поставляемого по государственным ценам и направляемого на свободную продажу. Если происходило «затоваривание», государство уменьшало свою долю, если возникала необходимость – увеличивало. Производители, в свою очередь, постоянно давили на правительство, желая как можно больше меди поставить за рубеж, где цены были значительно выше. Параллельно шел торг о закупочной цене. Производители требовали ее повышения до 8 руб. Чиновники, среди которых были владельцы медеплавильных заводов, колебались: это означало, с одной стороны, повысить свою прибыль, с другой – лишиться сверхприбыльной чеканки медной монеты по стопе 16 руб. из пуда. Производственные расходы при переработке пуда меди в монету составляли на государственных заводах 95 коп., соответственно прибыль казны составляла примерно 9 руб., буквально взявшихся из ниоткуда.
Если учесть, что часть денежных потоков, полученных за реализацию меди на внешнем рынке, возвращалась на монетный двор, можно смело заявить, что вся от- расль медной добычи и производства работала на укрепление российской валюты [9, с. 110–111].
Однако война продолжалась, и нужда в деньгах не исчезала. Осенью 1760 г., после разгрома армии Фридриха II под Кунер-сдорфом, взятия Берлина, Пруссия продолжала сопротивляться, и перспективы очередной разорительной кампании и зимовки за границей, очередная задержка армии жалованья превращались в реальность [7, с. 234].
В это время П. И. Шувалов внес в Сенат ряд законопроектов, направленных на оживление отечественной экономики и рост доходов казны. Стоит отметить, что за все предыдущие пять лет весьма дорогостоящей войны вопрос о повышении прямых налогов (подушная подать) и косвенных (акцизы и цены на монопольные товары) не поднимался.
Среди этих проектов П. И. Шувалов предложил правительству еще раз увеличить стопу медной монеты и начать производство 32 руб. монет из пуда меди. Иными словами, недавно вошедшую в оборот монету образца 1757 г. вновь перечеканить с удвоением номинала.
Однако императрица Елизавета уже была больна, и в Сенате Шувалов столкнулся с оппозицией, потопившей его проект в прениях. Для графа ситуация складывалась непросто. Фоном сенатской дискуссии стало резкое усиление влияния клана Воронцовых.
Главным оппонентом могущественного фаворита в Сенате был Яков Петрович Шаховской (1705–1777), обер-прокурор Синода. Эта должность позволяла ему подавать на любое сенатское решение свое «Особое мнение», получив которое императрица Елизавета обычно отправляла на доработку сенатские решения. Я. П. Шаховской не скрывал сомнений в пользе столь легковесной монеты, практически открыто обвиняя фамилию Шуваловых и их сторонников в собственной выгоде, так как с 1754 г. в России строились более 40 частных металлургических заводов, собственники кото- рых остро нуждались в заказах. Так, брат П. И. Шувалова Александр, захватив крупнейшие металлургические заводы Европейского Центра, сумел с его помощью добиться от Сената льготных для себя, но идущих вразрез с действовавшим тогда горным законодательством постановлений и тем самым безжалостно расправиться со своими конкурентами – заводовладельцами из купечества.
Я. П. Шаховской аргументированно критиковал монетный проект П. И. Шувалова. При этом он использовал и исторический опыт, и экономические аргументы. О вреде легковесной медной монеты говорил еще Петр Великий. Кроме того, удвоение монеты вызывает появление нового номинала – медного гривенника (10 коп.). Таким образом, десять новых медных монет можно обменять на серебряный рубль – не станет ли следствием этого вымывание из обращения медной монеты?
П. И. Шувалов парировал, что 32-рублевая стопа будет явлением временным, и как только война закончится, такую монету предполагается изъять из обращения и перечеканить обратно по 16-рублевой стопе.
Главным аргументом Я. П. Шаховского было то, что новую легковесную монету станут подделывать, и повторится старая ситуация второй половины XVII в. Фальшивая монета, делать которую ранее при 8-рублевой стопе было просто нерационально (потому что фальшивомонетчики потратили бы столько же меди и труда, сколько стоит настоящая монета), при планируемой 32-рублевой стопе становится выгодным коммерческим предприятием: затратив на переработку пуда меди 6–8 руб., «воровские люди» получат 24–26 руб. прибыли (более 350 %). В результате – расстроенное денежное обращение, падение доверия населения к новым медным деньгам и массовое накопление серебряной монеты.
Но данный аргумент, как бы угрожающе он ни звучал, не прошел. П. И. Шувалов опроверг его сильными контраргументами. Во-первых, заявил он, массовая порча монеты XVII в. проистекала из самой порочной природы проволочной монеты-чешуйки. Для ее массового изготовления требовались минимальный инвентарь и навыки. Современное же монетное производство, в особенной степени медное, требует уже больших сложных машин и механизмов. Выделка и оформление монетного кружка требует 15 этапов, и этим занимаются сотни квалифицированных мастеров. Оттиск штемпеля производится тяжелым прессом. Кроме того, за время предыдущей монетной перечеканки, когда на монетные дворы поступало большое количество монет из обращения, среди них не было замечено поддельных. Таким образом, фальшивомонетчики просто не обладают технической базой для массовой порчи монеты.
Что же до возможной диверсии соседних стран, то выпуск ими подделок для нанесения вреда России именно в этот момент весьма маловероятен: со Швецией и Турцией сейчас мир, Польша же технологически несостоятельна для производства крупной партии поддельной медной монеты. Пруссия же сама испытывает жестокую нужду, и от нее можно отгородиться пограничными кордонами.
Пытаясь выправить положение, Я. П. Шаховской допустил ошибку, во время одного из заседаний предложив выпускать «банковские цидулы, иначе называемые билетами». Такая идея уже предлагалась в 1744 г.
П. И. Шувалов поймал оппонента и блестяще его разгромил: «Наполнение казны способом банкцетелей или цидул вредно и разорительно для государства. Для дела воровской монеты потребны фабрики и машины, великой силой действуемые, довольное число людей, много подвод. А для дела воровских банкцетелей надобна только одного бездельника голова, бумага, чернила и доска, а к их провозу на миллион рублей – карман».
П. И. Шувалов был полностью прав: дело защиты бумажных денег от подделки находилось на начальном уровне развития. Первые банковские векселя, выпущенные Австрийской империей в это же время, имели в качестве защиты только набранный разными шрифтами текст, чтобы злоумышленник, имеющий доступ только к одному стандартному набору типографских литер, не мог отпечатать весь билет за раз.
Благодаря П. И. Шувалову идею бумажных денег тогда похоронили и вернулись к ней лишь во времена царствования племянника Елизаветы – Петра III.
В таких прениях прошел целый год. Исчерпав аргументы в публичных дискуссиях, оппоненты воздействовали на императрицу приватными путями: Я. П. Шаховской – через статс-секретаря Елизаветы Адама Васильевича Олсуфьева, а П. И. Шувалов – через жену Мавру Егоровну, старую подругу императрицы.
Проблема с денежной реформой была еще и в том, что она предлагалась в пакете с массой других мероприятий, которые она призвана была профинансировать. И если к реформе, затрагивающей низшие слои населения, сенаторы в целом относились однозначно положительно, то прочие нововведения обещали невиданную ранее раздачу кредитов, несколько десятков миллионов рублей. Все это требовало обсуждения и принятия именно таких решений, которые были выгодны каждому конкретному сенатору. Это сильно затягивало принятие окончательных решений.
В итоге прения продолжались вплоть до смерти императрицы и пережившего ее на десять дней П. И. Шувалова.
Воцарившийся Петр III так же остро нуждался в деньгах, и шуваловская реформа была пущена в ход. При новом целеустремленном правителе никаких сенатских дискуссий уже не велось.
Уже 17 января 1762 г. реформа была начата, создана специальная Главная экспедиция передела медной монеты под руководством бригадира М. А. Яковлева. Вместе со старыми монетными дворами перечеканкой занялись новоустроенные монетные дворы в Ярославле (212 тыс. руб.), Сестрорецке (151 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (66 тыс. руб.) и с. Поречье Ярославской губернии (6 173 руб.).

Рис. 4. Четыре копейки – «барабаны» Fig. 4. Four kopecks – “drums”
Дизайн новых монет был разработан Яковом Штелиным и был выдержан в любимом Петром III милитаристском стиле прусских монет. На монетах изображались военные трофеи: пушки, знамена, пики и барабаны, давшие неофициальное название этим монетам (рис. 4) [5, с. 195].
К сожалению, мы не располагаем мемуарными свидетельствами современников, которые оставили бы нам бытовые подробности монетных реформ 1756–1763 гг. В целом население Российской империи принимало медную монету, но и удивлялось четырехкратному повышению номинала одного и того же монетного кружка за несколько лет.
В июле 1762 г. произошел новый дворцовый переворот, но производство новой медной монеты продолжалось, так как она не несла портрета или монограммы свергнутого императора.
Весной 1763 г., когда Екатерина II укрепилась на престоле и начала вникать в ситуацию, выпуск « барабанов » по 32-рублевой стопе был прекращен. Как уже говорилось выше, не было представлено убедительных аргументов против 32-рублевой стопы, но в обществе тогда господствовали сильные антиголштинские и антишуваловские настроения. Все, сделанное покойными императором и фаворитом, подвергалось критике.
Екатерина II вернулась к старому дизайну и установила монетную стопу в 16 руб. с пуда меди. Отчеканенные « барабаны » (к апрелю 1763 г. их было отчеканено на

Рис. 5. Памятная медаль «Установление исправной монеты» Fig. 5. Commemorative medal “Establishment of a serviceable coin
8,2 млн руб.) вновь отправились в переделку. Уже отправленные в оборот «барабаны» выкупались у населения по обозначенному номиналу, а потом перечеканивались с понижением цены в 2 раза. В этот раз перечеканка принесла казне только убытки (например, при перечеканке 10 коп. в 5 коп. казна теряла 50 %, не считая накладных расходов).
Срок обмена «барабанов» не устанавливался, но в 1768 г., в связи с началом Русско-турецкой войны и новых экономических трудностей, прием петровских денег был прекращен. Периодически партии «барабанов» всплывали на внутреннем рынке, их принимали к расчету с наддачей сверх номинала. Уже в 1787 г. крупная партия
«барабанов» на сумму 1,3 млн руб. была обнаружена в хранилищах бывших Медного и Артиллерийского банков, созданных П. И. Шуваловым. Их перечеканкой занимался Московский монетный двор по той же 16-рублевой стопе в актуальные монеты.
В ознаменование монетной реформы в 1763 г. была выпущена памятная медаль с элементами монетного двора, свежеотче-каненными монетами и надписью: «Установление исправной монеты. И сие тобою одушевляется» (рис. 5).
Завершение Семилетней войны, рост добычи российского серебра, оживление и положительный баланс внешней торговли, а также национализация монастырских имений дали Екатерине II хорошую экономическую базу для осуществления планов [8, с. 122].
В целом можно сделать вывод, что операции с медной монетой помогли России сохранить и удержать экономику, обойтись без порчи своей монеты и удержаться от европейского финансового кризиса 1763 г. [4, c. 65]. При Екатерине II Россия отошла от равенства цены куска меди и номинала на монете. В споре двух моделей построения денежной системы в России победил средний путь. На этом историю чеканки медной монеты в России в период Семилетней войны можно считать законченной.
Список литературы Чеканка медной монеты Российской империи в период семилетней войны (1756-1763 гг.)
- Адрианов Я. В. Медные монеты Российской империи 1700-1917 годов. Пермь: Звезда, 2008. 167 с. EDN: QPLICH
- Богданов А. А. Законодательные источники по истории монетного дела в России XVIII в.: значение и методика изучения // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 2: История. 2012. Вып. 1. С. 126-133. EDN: OQRHRD
- Григорькин В. А. Просопография как направление исторического исследования // XXXV Огаревские чтения: материалы науч. конф.: в 2 ч. Саранск, 2007. С. 3-6. EDN: YSVIIR
- Григорькин В. А. Европейский финансовый кризис 1763 г. // Экономическая история. 2023. Т. 19, № 1. С. 58-65. EDN: GUHAOO
- Доля С. В. Кружева и сталь. Заметки о Семилетней войне 1756-1763 годов. М.: Белый ветер, 2013. Ч. 1. 365 с.
- Елизаветин Г. В. Деньги. М.: Детская литература, 1970. 258 с.
- Прозоровский А. А. Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. 1756-1776. М.: Российский архив, 2003. 784 с.
- Спасский И. Г. Русская монетная система. Л.: Учпедгиз, 1962. 152 с.
- Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М.: Финансы и статистика, 1994. 336 с.