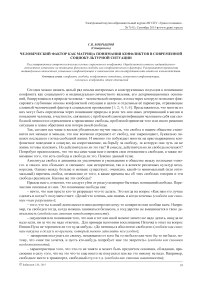Человеческий фактор как матрица понимания конфликтов в современной социокультурной ситуации
Автор: Бобрышов Сергей Викторович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Человек культуры: новый смыслы образования (посвящается 85-летию академика РАО Е.В. Бондаревской)
Статья в выпуске: 7 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются антропологические основы современного конфликта. Определяется комплекс индивидуально-личностных установок на понимание феномена свободы как конфликтогенного фактора. Раскрываются проявления индивидуально-личностных установок конфликтующих в зависимости от конструктивности опыта их взаимодействия.
Конфликт, свобода, конфликтное поведение, установки конфликтующих, "сигналы" конфликта, опыт отношений
Короткий адрес: https://sciup.org/14822352
IDR: 14822352
Текст научной статьи Человеческий фактор как матрица понимания конфликтов в современной социокультурной ситуации
Сегодня можно назвать целый ряд весьма интересных и конструктивных подходов к пониманию конфликта как социального и индивидуально-личностного явления, его детерминационных оснований, базирующихся в природе человека – человеческой матрице, взгляд через которую позволяет фиксировать глубинные основы конфликтной ситуации в целом и отдельные её параметры, отражающие сложный человеческий фактор в социальном проявлении [1; 2; 4; 5; 6]. Представляется, что многие из них могут быть определены через понимание природы и роли тех или иных детерминаций в жизни и поведении человека, в частности, связанных с проблемой самоидентификации человеком себя как свободной личности и стремлением к проявлению свободы, проблемой принятия того или иного решения ситуации в плане обретения или потери своей свободы.
Так, сегодня все чаще и весьма убедительно звучит мысль, что свобод в нашем обществе становится все меньше и меньше, что нас всячески отрешают от свобод, нас закрепощают, буквально лишают последнего глотка свободной жизни. И именно это побуждает многих на ярко выраженное конфликтное поведение в социуме, на сопротивление, на борьбу за свободу, за которую они чуть ли не жизнь готовы положить. Но действительно ли это так? В смысле, действительно ли свободы исчезают? Попробую предположить, что это мы сами чаще всего меняем свое отношение к свободам, а также понимание того, что есть свобода и свобода ли это. Поясню данный тезис.
Амплитуда свобод и динамика их увеличения и уменьшения в обществе между полюсами «много» и «мало» или «больше» и «меньше» как исторически, так и в аспекте различных культур неоднородна. Однако между больше и меньше существует, очевидно, какой-то минимальный (или оптимальный) перечень свобод, независимо от того, в какие времена мы об этих свободах говорим и эти свободы реализуем. Каковы же эти свободы?
Прежде всего, отметим, что следует уйти от ряда утилитарно-бытовых пониманий свободы. Перечислим основные из них. Это понимание свободы как:
– нечто, что нам просто кто-то разрешает что-то делать. Это когда на вопрос «Как нам это лучше сделать и когда?» получаем ответ: «Делай что хочешь, как знаешь и когда хочешь» ( свобода как синоним «нам разрешили» );
– того, что ты в своей деятельности неподконтролен кому-то конкретно или вообще всем. Например, ты свободен тогда, когда можешь заниматься бизнесом, а государство не вмешивается в твою деятельность ( свобода как синоним неподконтрольности ).
-
– ощущения или понимания того, что нам в тот или иной момент ничего не надо делать, никуда не надо идти, ни за что не надо отвечать. Для примера вспомним восклицание Пятачка в ответ на вопрос Винни-Пуха не торопится ли тот куда-нибудь: «До пятницы я абсолютно свободен» ( свобода как синоним вакуума в делах и во времени, который можно заполнить чем угодно );
-
– намерения поступать по своему, независимо от кого бы то ни было или чего бы то ни было, потому, что «мне так хочется, и пусть кто-нибудь попробует мне это запретить» ( свобода как синоним вседозволенности );
-
– характеристики того, что что-то не занято и может быть предметом освоения, обладания, присвоения в силу того, что на это что-то еще никто не покусился или же это никому не надо. Например, свободное место в транспорте, свободный стул и т.д. ( свобода как синоним вакантности );
-
– характеристики особенностей поведения, творчества, указывающая на приверженность к деятельности вне каких-то жестких рамок устоявшихся канонов и регламентов: свободный стиль, свободный художник и т.д. ( свобода как антоним стереотипности ).
Подобные представления о свободе предполагают наличие некоторого одного, подчас весьма упрощенного критерия, выполнимость которого и определяет разницу между свободой и несвободой (в понимании её самим человеком). Отсюда предполагается намерение человека иметь для себя некое право или какую-то возможность, зачастую заранее ему хорошо известную или так или иначе представляемую, предположительно, вожделенную. Именно обретя эту возможность, он и становится полностью свободен, пусть даже только лишь в своих собственных ощущениях. Главной предпосылкой здесь является, прежде всего, представление человека о том, что он получает или что теряет, выбирая одно или другое, и, исходя из этого, он должен решить, что для него лучше, безопаснее, удобнее, выгоднее. Фактически, и это отмечают многие исследователи свободы, в данных подходах понятие свободы формулируется по аналогии с совершенно другим понятием, по сути ничего общего со свободой не имеющим, но, все же, лежащим в основе глобальной системы ценностей современной цивилизации – понятием потребности, локализуемой в духовной или биологической сферах. У каждого человека объективно есть некая, да и не одна, потребность. И покуда его её лишают, он считает себя несвободным. Но как только удовлетворишь – и ты свободен! Вот он, человеческий фактор! Приходится констатировать, что в современной цивилизации просто нет представления о свободе как об антропологическом универсальном понятии, т.е. как о понятии, смысл которого восходит не к каким-то философским размышлением об основах регулирования общественного бытия, а определяется внутренней сущностью человека. И, соответственно, состояние свободы фиксируется не критериями внешнего бытия, а собственно личностью.
Речь здесь идет о свободе как о некой духовной ценности, которая объективно существует в любом человеческом сообществе, не придумана кем-то, не является подарком или отступным кому-то, а выступает всеобщим универсальным регулятором человеческих отношений и взаимодействий. Является таковой в силу того, что восходит к краеугольным основаниям выстраивания отношений, объективно обремененных мультикультурностью народов, а соответственно насыщенных противоречиями, препятствующими конструктивному взаимодействию, осложняющими диалог или вовсе препятствующими его установлению. Свобода здесь – это, во-первых, сама возможность каждому сделать выбор, во-вторых, имманентно присущая потребность в этом выборе и, в-третьих, способность человека сделать правильный для себя выбор.
В основе понимания диалогичности цивилизованного общества и исходящих из феномена диалогичности особенностей, преимуществ, обязанностей, а иногда и «неудобств», сопровождающих жизнь человека, ориентирующегося на принципы диалога, как раз и лежит, с одной стороны, ценностносмысловая инструментовка самого понятия «свобода», а с другой – определение совокупности личностных качеств, способностей, знаний и умений, определяющих внутреннюю возможность человеку быть свободным. Если уйти от обыденно-упрощенного понимания свободы, то можно увидеть, что свобода проявляется в жизни многоплановым феноменом, имеющим в своей интерпретации многочисленные социокультурные напластования национального, расового, религиозного, возрастного, сексуального, социально-бытового и др. характера.
Принципиальным же здесь является принятие личностью свободы (как и возможность, способность самому её проявлять) как фундаментальной характеристики мировоззрения, взаимосвязанное с данным явлением отношение каждой личности и общества в целом к свободе (-ам) как к социальной ценности и базовому принципу межкультурного взаимодействия, а соответственно готовность всемерно отстаивать, защищать свободу (и свою собственную, и окружающих людей).
В качестве минимального (или оптимального) перечня свобод и соответствующих отличительных характеристик диалогичного общества, выступающего антитезой конфликтного общества, отличительных характеристик личности, способной осуществлять диалог (либо же заряженной на конфликт, если эти отличительные характеристики не сформированы), выделим:
-
1. Свободы, определяемые поликультурностью общества :
свобода овладения социально-бытовой (житейской) культурой и индивидуального совершенствования в ней - предполагает развитую ориентированность и постоянную потребность в овладении культурой многопланового межличностного общения, организации и проведения досуга, индивидуального и совместного труда, бытового и профессионального взаимодействия, сотрудничества, соперничества и др. в различных ситуативно-детерминированных и долговременно реализуемых условиях социального взаимодействия (жизнь в городе, в селе, работа, учеба, отдых, участие в различных коллективах, движениях, организациях и т.д.);
-
- свобода национального самоопределения и самопроявления - требует от личности знания и уважения национального (образ жизни, традиции, обычаи, обряды, материальная культура, язык и т.д.) как основы ментальности, как основы ощущения и переживания национальной свободы каждого народа, как источника его саморазвития и эволюции в вихрях социальных процессов;
-
– свобода религиозного самоопределения – предполагает не просто свободу отправления религиозных обрядов, возможность индивидуального соблюдения религиозных норм и канонов, а знание личностью основ религий народов, интегрированных в общество, понимание роли религии в формировании конкретного сознания, мировоззрения каждого народа, проявление терпимости к вероисповеданию человека личности как к одной из основ его духовной силы;
-
- свобода семейного самоопределения - предусматривает осознание семьи как первичного, самого мощного фактора культурного (межкультурного) самоопределения и саморазвития личности; понимание семьи как механизма фильтрации, синтеза, развития и трансляции разноспекторных норм и ценностей социального, этического, этнического, религиозного и т.д. характера, предлагаемых личности для освоения; наличие потребности и готовности к воспроизводству и развитию семейной культуры как основы воспроизводства общества и культуры в целом.
-
2. Свободы, определяемые поливозрастностью общества :
свобода каждого быть и восприниматься достойной личностью безотносительно своего возраста – означает способность видеть в человеке прежде всего человеческое, потому значимое и значительное «здесь, сегодня и сейчас», а соответственно и готовность признавать самоценность любого возраста, т.е. принимать любой возраст во всей полноте его преимуществ, слабостей, сложностей и возможностей; способность и нацеленность осуществлять в мыслях и поступках одинаковое уважение как к «младу», так и к «стару», что предполагают отказ от популярного взгляда на детей всего лишь как на «будущих граждан страны» (вот когда вырастешь, тогда и будешь иметь свой голос и взгляд, тогда и узнаешь, все поймешь, тогда тебе будет позволено, тогда делай, что хочешь, вот тогда всё ради бога и т.д.), в то же время предполагают способность младшего поколения к уважению старших и старости «не за страх, а за совесть»;
-
– свобода на сомнения и ошибки – требуют признания за каждым человеком его естественного права на поиск, сомнения, ошибки в процессе личностного, гражданского и профессионального становления;
– свобода для проявления каждым всей полноты заботы о «старых и младых» – предполагает развитость потребности и умения думать и заботиться о старших (старых), особенно когда и надобности-то в них уже особой нет, когда их слово и оценка ничего не значат, когда они не в помощь, а, что называется, в обузу; требуют от взрослых овладения педагогической и психологической культурой воспитания младшего поколения, оказания педагогической помощи и поддержки каждому ребёнку в процессе его индивидуального развития; требует постоянного совершенствования в культуре межвозрастного общения и взаимодействия.
-
3. Свободы, определяемые полипрофессиональностью общества :
– свобода индивидуального выбора и овладения профессией – предполагает сформированность прогностических представлений о себе, о своих возможностях, знание требований профессиональной деятельности, знание перипетий социально-экономической ситуации, определяющих перспективность
-
4 . Свободы, определяемые открытостью общества :
и востребованность той или иной профессии; способность делать выбор исходя из осознания индивидуальных предпочтений и устремлений, понимания личностной значимости в совершенствовании в той или иной профессиональной сфере деятельности, исходя из представлений о собственном пути и траектории личностного и профессионального становления и роста; развитую мотивацию и способность к целеустремленной работе по самосовершенствованию в аспекте требований профессии к личности;
– свобода смены профессии и профессиональной самореализации как основы достойного жизненного существования и личностного развития – предполагают сформированность у личности широкой социальной умелости, полипрофессиональной компетентности и кругозора; уважения ко всем видам и родам профессий; потребности в постоянном профессиональном росте и совершенствовании; профессиональной мобильности, способности и стремления не просто искать профессию как перспективный, престижный или увлекательный вид профессиональной деятельности и место работы по душе, а именно как основу личностного развития, обретения высокого социального статуса и социальной стабильности.
-
– свобода для понимания общества и индивидуального смыслового самоопределения себя в нем и его для себя – предполагает сформированность у личности особого интегративного типа мышления (политического, правового, нравственного, экологического и т.д.), характеризующегося аналитичностью, оптимистичностью, прогностической направленностью и др.;
-
– свобода для освоения общества и самореализации в нем – требует от личности способности, умения, решимости адаптироваться в обществе, самореализовываться в нём посредством создания и участия в деятельности общественных движений, организаций, групп. В качестве ключевого требования выступает способность аккумулировать социальный опыт, дифференцировать его с точки зрения социальной и личностной значимости, транслировать, интегрировать его в различные культуры настоящего и будущего;
-
– свобода для критики и самокритики – предполагает способность видеть реалии и перспективы развития общества (в политическом, правовом, экономическом, духовном и т.д. аспектах), разбираться в законах и механизмах его развития; ориентироваться в факторах, определяющих успешность и поступательность социального развития; видеть объективную и субъективную основу противоречий в обществе и пути их разрешения, видеть своё место и роль в процессах эволюции общества; уметь доказывать, убеждать, разъяснять, отстаивать свою позицию;
-
– свобода для преобразования общества и своей личности – требует устойчивого проявления у личности социальной активности преобразовательного плана; способности актуализировать на уровне общественной и личностной значимости социальные задачи и нестандартно, творчески их решать; способности осуществлять гражданские поступки в ситуациях личностно и социально детерминированного выбора, в основе которых должен лежать синтез осознания необходимости социальных преобразований, осознания достаточности потенциала (способностей, знаний, умений, навыков) своей личности для успешности этих преобразований, а также высокого уровня личностной ответственности за результаты и возможные последствия преобразований;
– свобода для выхода из общества – требует социальной смелости и разумности; оптимистической устремленности в будущее с позиций задач личностного самостроительства, самосовершенствования, самореализации; способности и взвешенной решимости интегрироваться в культуру иного социума, сохраняя высокую степень личностной самоидентификации; развитости культуры жизненного самоопределения.
-
5. Свободы, определяемые потенциальной диалогичностью общества:
-
– свобода на вступление в равноправный диалог в любой сфере социального взаимодействия – требуют от каждой личности, от общества в целом наличия установки на всемерное развитие партнерства и сотрудничества как универсальной формулы диалога, способностей и умений устанавливать, подде-
- рживать и развивать межвозрастные, межполовые, межпрофессиональные, межконфессиональные и т.д. контакты и отношения; предусматривает сформированность личностной независимости, ясности и беспристрастности в оценках, суждениях, подходах, взглядах как важнейших личностных качеств, помогающих преодолеть деструктивную конфликтность в ситуациях встречи с иными социальными нормами, ценностями, отношениями, оценками, способами освоения духовной и материальной культуры;
– свобода видеть, говорить, понимать и быть услышанным – означает развитость коммуникативной и эмпатийной сфер личности; постоянную готовность к деятельной включенности каждого в значимые для личности и общества события; способность и нацеленность к конструктивному взаимодействию, готовность доверять, идти на компромисс и т.д.
Представленные характеристики диалогичного общества и соответствующие отличительные характеристики личности, реализующей себя в данном обществе, дают возможность обозначить контуры личностной позиции человека, нацеленного на диалог, стремящегося к избеганию конфликта. Такая личностная позиция – это, в первую очередь, форма акцентуированного выражения ценностного отношения личности к свободам (к полноте свобод, их качеству), реализуемым и замысливаемым обществом и каждой личностью; это понимание и принятие глубинной взаимосвязанности и взаимообусловленности личностных свобод как непререкаемой ценности; это признание личностных свобод в качестве стрелки компаса, указывающей на направление развития общества в целом и каждой личности, интегрированной в него; но это и активное отстаивание этих свобод как в отношении себя, так и окружающих, и тогда мы и говорим о безусловной конфликтности поведения человека. Но главное при этом, мы всегда должны задаваться вопросом: во имя чего конфликтуем?
Известно, что конфликт, как в наиболее общем плане его принято обозначать – это не просто столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, ролей, мнений, ценностей или взглядов участников социального взаимодействия, а реализация его субъектами острого по эмоциональной составляющей способа разрешения создавшегося противоречия, проявляющегося в целенаправленно осуществляемом и развиваемом противодействии друг другу [1; 5]. Для конфликта характерен особый вид межличностного взаимодействия – конфликтное взаимодействие, выражающееся в тех или иных стратегиях и тактиках поведения участников конфликта, направленных на достижение преследуемых ими целей. Данные стратегии (в классическом их проявлении – это борьба, уклонение, сотрудничество, приспособление, компромисс) в тех или иных вариациях их исполнения, как правило, придают специфическую окраску поведению, часто делая его совершенно несвойственным для данного человека [2; 6] . При этом оппоненты также начинают испытывать деструктивные психические состояния, в основе которых тревога, угроза, фрустрация и др. Соответственно обозначенным выше посылкам ведущими сигналами (симптомами) конфликта, фиксируемыми через выявление специфических характеристик поведения и самоощущения личности, находящейся в конфликте, чаще всего оказываются:
– переживание кризиса в отношениях (разрыв когнитивных, эмоциональных и др. связей с партнером; демонстративная независимость в поведении, подчеркнутое нежелание замечать и обсуждать проблему, показ того, что «со всем этим я справлюсь и без тебя, к тому же мне не то что нехорошо, а даже просто замечательно»; постоянное, все время усиливающееся словесное несогласие оппонентов друг с другом; отсутствие открытого общения, его жесткая регламентация, доминирование закрытых позиций в общении; стремление к дистанцированности друг от друга, сохраняющееся и специально поддерживаемое оппонентами разделение во времени и (или) пространстве; сплетничание об оппоненте или его (её) друзьях, родственниках, а также подспудное желание получить о них негативную информацию, внутренняя готовность поддержать эту информацию (здесь доминируют такие социальные стереотипы и установки, как «дыма без огня не бывает», «люди зря говорить не будут» и т.д.); проявление подозрительности и недоверчивости по отношению к оппоненту);
– психическая напряженность и дискомфорт (подчеркнутая замкнутость и возбужденность; интуитивное ощущение, что что-то не так, хотя выразить его словами очень трудно; ощущение своей оби-женности, «накручивание» себя по этому поводу, мнимое или реальное предчувствие потенциальной униженности, более или менее осознанное понимание того, что тебя ждут неприятности и др.; зацикли- вание на словах, жестах, поступках оппонента, которые «диагностируются» как неприятные, вызывающие, раздражающие, представляющие явную или скрытую угрозу; наличие разнообразных негативных образов и фантазий об оппоненте в период рефлексии конфликтной ситуации и моделирования последствий развития конфликтных отношений; формирующийся по отношению к оппоненту образ врага и соответствующая приоритетность выбора насильственных способов построения отношений и решения вопросов друг с другом; немотивированная вспыльчивость, озлобленность, ожесточенность и непримиримость в спорах, допускающая оскорбления друг друга, потерю контроля над эмоциями и т.д.; разбалансированность в мыслях, суждениях, оценках и прогнозах относительно всего того, что входит в предметную область конфликта; практически непрерывное беспокойство угнетающего характера, порождаемое предвзятыми мнениями и негативными установками на личность и поступки оппонента и на свою уязвимость);
– наличие повторяющихся недоразумений («искреннее» непонимание партнерами по взаимодействию «как такое могло произойти», «как с ними могли так поступить»; интуитивная склонность делать ложные выводы из ситуации, что порождается, в частности, недостаточно четким выражением мыслей или отсутствием взаимопонимания);
– наличие постоянных инцидентов (непринципиальных в содержательном плане и незначительных по внутренней напряженности, но достаточно эмоционально выраженных ситуаций противоречивого по своей сути взаимодействия (по тем или иным «мелочам»), несущих в себе зёрна конфликта. Как правило, вызывают временное волнение или раздражение. Через несколько дней мелочи и связанное с ними раздражение забываются, однако, непроизвольно накапливаясь, они могут образовать критическую массу и привести к эскалации очередной конфликтной ситуации, перерастанию её в широкомасштабный конфликт.
Вышеприведенные «сигналы» конфликта призваны диагностировать его с точки зрения развития от самых начальных фаз (т.е. от предконфликта, фактически порой только интуитивно воспринимаемой трудной ситуации) до эскалированности на достаточно высоком уровне.
Практика показывает, что детальное понимание конфликта, видение модели его развития, выбор процедуры его разрешения, определение возможности примирения сторон предполагает также анализ сложившегося «багажа» отношений оппонентов [2; 3; 5] . В зависимости от предшествующего опыта взаимоотношений в подобных и других трудных ситуациях, наличия в нём различной степени остроты разногласий, успешно или неуспешно разрешенных противоречий, застаревших обид, претензий и т.д. новая конфликтная ситуация воспринимается её субъектами исходя из ряда индивидуально сформировавшихся и порой очень специфически проявляемых установок. В наиболее общем плане эти установки и возможные варианты их проявления могут быть представлены следующим образом:
– восприятие конфликта с точки зрения его случайности или закономерности: а) этот конфликт абсолютная случайность, полное недоразумение и вообще не понятно, откуда он взялся; б) новый конфликт – это уже так привычно и он вполне закономерен; в) а разве могло быть как-то иначе, этот конфликт совершенно естественен и был просто неизбежен;
– восприятие проблемы, лежащей в основе конфликта, как касающейся частного вопроса или затрагивающей всю палитру, все содержание взаимодействия: а) данная проблема касается сугубо частного, отдельного вопроса взаимодействия и никак не влияет на общие отношения сторон; б) проблема настоящего конфликта уже давно вызревала, так как затрагивает ряд взаимосвязанных с ней спорных вопросов; в) данная проблема лишь верхушка айсберга из противоречий, которые существуют во взаимодействии и в отношениях субъектов конфликта;
– восприятие себя и оппонента в данном конфликте с точки зрения степени признания вины за возникшую проблему: а) в возникновении данного конфликта я сам во многом виноват, в первую очередь мне самому следовало бы быть более внимательным, уступчивыми, не перетягивать одеяло на себя; б) согласен, что обе стороны виноваты, однако надо признать, что если уж я и виноват в какой-то там степени, то это ничто по сравнению с виной моего оппонента, в этой ситуации я вообще агнец по срав- нению с ним; в) конфликт в очередной раз возник по инициативе и из за безапелляционной позиции моего оппонента, во всем случившемся в первую очередь виноват именно и только он, я просто жертва этого безумца, скряги, негодяя;
– восприятие возможности разрешения конфликта с точки зрения быстроты, легкости, объема затрачиваемых усилий: а) конфликт безусловно будет разрешен, причем быстро, без привлечения кого-либо со стороны; б) данный конфликт непрост, потребует многих усилий и немалого времени для различных согласований, но решить его в принципе можно, однако это во многом будет зависеть от того, как поведет себя оппонент, насколько будет корректен, признает ли, что был не прав, согласится ли, что должен отказаться от своих претензий и т.д.; в) этот конфликт не будет разрешен никогда, так как не может быть разрешен в принципе, ибо с «этим человеком» не просто ни о чем договориться невозможно, а не нужно, так как бестолку, вредно и себе и окружающим дороже;
– восприятие возможности (необходимости) продолжения взаимодействия с оппонентом в ходе процедуры разрешения конфликта и по его завершении с точки зрения личностного принятия друг друга, интенсивности, направленности на решение проблемы: а) конфликт нашим отношениям не помеха, взаимодействовать будем как и раньше и даже еще плотнее и интенсивнее, пока не разрешим ситуацию; б) как дальше и по какому кругу вопросов я буду взаимодействовать с оппонентом, я пока не знаю, все будет зависеть от того, сможем ли мы преодолеть наши разногласия, будет ли он вести себя правильно и насколько «дорого» и «больно» мне все это станет. Пока же я буду держаться от него подальше, у меня сейчас нет желания, сил и возможности вести с ним диалог. Пусть вначале осознает, что он виновник проблемы, пусть покажет, что наши отношения ему небезразличны и что он готов признать, что был неправ; в) продолжать взаимодействовать с ним и выстраивать какие-либо отношения – себе дороже и себя не уважать. Каким я был глупцом, что вел с этим неблагодарным существом какие-то дела, и если он позволит себе выговорить мне что-либо, я ему все скажу, я всем покажу какое это ничтожество и человеческая мразь.
Указанные выше сигналы конфликта и индивидуально-личностные установки субъектов конфликтной ситуации (безотносительно от степени их осознания каждой из конфликтующей сторон) во многом определяются осознанием личностью своей свободы-несвободы, ответственности-безответс-твенности, зависимости-независимости от самого себя и других, от тех или иных обстоятельств, значительно предопределяют выбор стратегий поведения в конфликте, уровень его стрессогенности, могут быть успешно использованы при изучении и описании конфликта в любой социальной ситуации, а также при принятии решения о процедуре разрешения конфликта и определении возможностей и объема усилий, требуемых для примирения сторон.
Список литературы Человеческий фактор как матрица понимания конфликтов в современной социокультурной ситуации
- Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000.
- Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. Харьков: Ун-т внутренних дел, 1997.
- Гришина Н.В. Давайте договоримся. Практическое пособие для тех, кому приходится разрешать конфликты. СПб.: Сова, 1993.
- Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. 2-изд., доп. М.: Аспект-пресс, 1995.
- Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.
- Скотт Джини Г. Способы разрешения конфликтов. М., 1990.