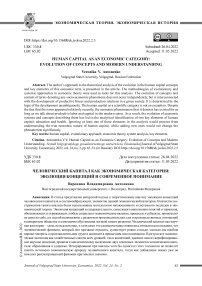Человеческий капитал как экономическая категория: эволюция концепций и современное понимание
Автор: Антоненко Вероника Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Экономическая теория. Экономическая история
Статья в выпуске: 2 т.24, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен авторский подход к теоретическому анализу эволюции концепций человеческого капитала и системообразующих элементов данной экономической категории. В качестве инструментов такого анализа были использованы методологии эволюционного и системного подходов в экономической теории. Эволюция концепций и содержательного, смыслового наполнения понятий и терминов, обозначающих и отражающих любые социально-экономические явления, процессы и субъекты, происходит не сама по себе, а в тесной взаимосвязи с развитием производительных сил и производственных отношений в конкретном обществе и однозначно обусловлена логикой такого развития. Человеческий капитал как научная категория - здесь не исключение, и хотя само это словосочетание появилось относительно недавно, тот экономический феномен, который оно призвано отразить, существует ровно столько, сколько мы вообще вправе говорить о производительном труде и капитале в привычном нам понимании. В результате экономическая эволюция как хозяйственных систем всех уровней, так и концепций, дающих нам их верифицированное научное описание, привела к аналитическому выделению двух ключевых элементов человеческого капитала: образования и здоровья. Игнорирование при анализе хотя бы одного из этих элементов не позволит понять истинную экономическую природу человеческого капитала, тогда как добавление новых уже не изменит рассматриваемый феномен критически значимо.
Человеческий капитал, эволюционный подход, экономическая теория, системный анализ, ключевые элементы
Короткий адрес: https://sciup.org/149141084
IDR: 149141084 | УДК: 330.8 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2022.2.5
Текст научной статьи Человеческий капитал как экономическая категория: эволюция концепций и современное понимание
DOI:
Для начала обратимся к рассмотрению самого явления эволюции и того значения, которое оно приобретает при анализе социальноэкономических феноменов и систем в динамике, через представление процесса их развития как последовательной смены расположенных в непосредственной близости друг от друга фаз или состояний. В самом общем и универсальном понимании эволюция – это «медленные, постепенные количественные и качественные изменения» [Большая советская энциклопедия, 1978, с. 558], что по определению принципиально отличается от скачкообразных или дискретных процессов с резкой сменой стадий или численных значений ключевых показателей. Но эволюция – это не стационарное состояние системы, это именно изменения, хотя и плавные, поступательные.
Следовательно, важнейшим признаком любых эволюционных процессов, независимо от их природы (которая может быть социально-экономической, биологической или физической), выступает сочетание сохранения системообразующих свойств и элементов эволюционирующего объекта с изменениями других свойств и элементов, а также полным отрицанием и исчезновением третьих. Если бы не было двух последних составляющих, а наблюдалось бы только сохранение существующего положения, то мы бы не могли говорить об изменениях системы (она была бы полностью статична), а в случае отсутствия первого эти изменения следовало бы относить к категории революционных, но не эволюционных.
Таким образом, всякая эволюционирующая система характеризуется наличием элементов трех локально имманентных типов (в том смысле, что в другой системе эти же самые элементы вполне могут типологически меняться местами): 1) существующих в неизменном виде; 2) сохраняющихся на протя- жении всего обозримого периода существования и функционирования системы, но при этом видоизменяющихся без потери собственных системообразующих качеств или свойств; 3) изменяющихся критическим образом либо не сохраняющихся во времени. Подобный подход широко известен в экономической науке и весьма плодотворно применяется при эволюционном анализе структуры и функционирования хозяйственных систем любого уровня.
В соответствии с устоявшейся традицией эволюционного подхода в экономической теории мы будем называть элементы первого типа элементами наследственности, второго типа – изменчивости, третьего – элементами необратимости [Иншаков, 2006]. Плодотворность же такого подхода к анализу хозяйственных систем обусловлена одним его важным преимуществом по сравнению с большинством других школ и направлений в экономической науке, в рамках которых были созданы в основном концепции статического описания объекта исследования в условиях равновесия, полной определенности и рациональности действий всех участников рассматриваемых процессов. Преимущество эволюционного подхода состоит как раз в том, что он дает всегда динамичную модель исследуемого социально-экономического феномена, где акторы функционируют в ситуации принципиальной неполноты информации, неопределенности и неустойчивого равновесия [Абалкин, 2000; Иншаков, 2011; Маевский, 1994; Макаров, 1997; Полтерович, 1998].
Объект исследования в рамках классической политэкономии
Экономическая эволюция происходила на протяжении всей обозримой истории человечества, диалектически выступая одновременно как факторным, так и результативным признаком его общей эволюции. Как только появились простейшие формы хозяй- ствования с их собирательством и охотой, одни формы добычи, производства, распределения, обмена, потребления и утилизации материальных благ закономерно стали сменяться другими, выступая как причиной, так и следствием появления, развития, расцвета, деградации, упадка и исчезновения обществ, государств и народов, а также локальных социально-экономических систем, отношений, институтов и практик.
В ходе этого процесса люди не могли не заметить, что лучших результатов (более успешных, в более короткие сроки, с наименьшими издержками и т. п.) добиваются правители, а также управляющие промежуточных уровней, обладающие набором личных качеств (а также, как бы сказали сейчас, – профессиональных), выгодно отличающих их от всех остальных: они могли быть умнее, решительнее, смелее и т. д. как своих современников, так и предков или потомков, благодаря чему, собственно, и добивались каких-то выдающихся результатов. Кроме того, было совершенно очевидно, что наибольшую пользу первобытному хозяйству приносит тот, кто лучше охотится или лучше собирает доступные в то время природные ресурсы, а для этого необходимо было обладать большей физической силой, сноровкой, сообразительностью и пр.
В более развитом обществе (например, в рабовладельческом) ценность физической силы и выносливости раба или же уровень интеллектуального развития философов, ученых и поэтов уже и подавно не вызывали сомнений, но при этом появилось и очень важное экономическое понятие, присущее вышеназванным человеческим качествам, а именно – понятие их стоимости. Совершенно очевидно, что более сильного и выносливого раба можно было купить или продать по более высокой цене. Рассуждения на эту тему мы можем встретить еще у Аристотеля [Доватур, 1965] и, разумеется, в трудах ученых и мыслителей последующих поколений, причем далеко не только экономистов. Но очень долгое время, на протяжении столетий, человеческие качества и свойства как экономическая ценность не отделялись от самого человека или, как сейчас говорят, носителя человеческого капитала.
Это важное методологическое разграничение мы впервые можем встретить, пусть и в неявном виде, в трудах У. Петти [Петти, 1940], хотя на необходимость целенаправленного развития у человека полезных качеств и свойств указывали философы, ученые и мыслители еще за много столетий до Нового времени, включая того же Аристотеля. Однако значимость такого развития ученые просто не могли бы по-настоящему оценить ни при каких обстоятельствах, пока экономическая эволюция не привела закономерным образом в Европе XVIII в. к бурному развитию промышленного производства, повышению роли торговли, денежного обращения, предпринимательства (в противовес ремесленникам и бродячим торговцам эпохи феодализма) и, что самое главное, появлению разделения труда, научная концепция которого была исторически впервые предложена А. Смитом [Смит, 1993].
Осознание экономической роли феномена разделения труда автоматически породило необходимость осмысления понятий и сущности производительности, результативности и эффективности труда, достижение требуемых значений которых напрямую зависит от умений трудящихся, их способности выполнять элементарные (в том смысле, что их дальнейшее разделение не имеет экономического смысла) трудовые операции в рамках сложной системы общественной дифференциации труда, которая сложилась на объектах промышленного производства в Европе того времени. А. Смит, кстати говоря, уже разграничивал простой и сложный труд, требующий наличия соответственно простых или сложных навыков у работников, на формирование которых, в свою очередь, необходимо потратить мало или много сил, времени и средств, а также иметь при этом более или менее выраженные способности к обучению сложному труду.
Важно и то, что начиная с А. Смита экономисты практически любых школ и направлений стали придавать не меньшую, а иногда и большую, по сравнению с землей, зданиями и орудиями производства, значимость знаниям, навыкам, умениям и способности человека к труду в роли факторов достижения богатства и благосостояния общества, а то и вовсе рассматривать их в качестве составной части последних. В частности, сходство сложных навыков и умений работника с орудиями промышленного производства состоит в том, что и те и другие делают труд более эффективным, их формирование / приобретение требует определенных расходов, но они впоследствии возмещаются и преумножаются посредством получения прибыли. Из этого следует ключевой вывод о том, что способности к сложному труду становятся капиталом только при условии их попадания в распоряжение собственника средств производства.
Этот собственник, правда, у А. Смита и Д. Рикардо полностью отождествлялся с организатором производства (предпринимателем), несмотря на то что в период их творчества экономическая эволюция в Европе уже привела к закономерному функциональному разграничению собственника капитала и предпринимателя, хотя и сейчас они вполне могут существовать в одном лице (как физическом, так и юридическом). Отметим, что впервые на необходимость подобного разграничения указал Ж.Б. Сэй, после которого оно стало уже вполне обычным элементом большинства теорий предпринимательства. Кроме того, Д. Рикардо, придерживаясь еще «досмитовс-кой» традиции, считал экономической ценностью самих наемных работников, а не их личные или, как сейчас принято говорить, профессиональные качества (прежде всего, навыки, умения и способности). В остальном же Д. Рикардо в понимании им экономической сути и роли того, что сегодня мы называем «человеческим капиталом», следовал вполне в русле концепции А. Смита [Рикардо, 1955]. Ее же придерживался и Дж. Милль, избежав при этом вышеназванной методологической неточности Д. Рикардо [Милль, 1980].
К. Маркс, также придавая первостепенное значение человеческим способностям в качестве фактора достижения богатства и благосостояния общества, не считал их капиталом трудящихся, а говорил о рабочей силе, которая и есть способность человека к производительному труду, точнее – совокупность способностей, используемых работником всякий раз, когда он создает что-либо, обладающее потребительской стоимостью. В этом смысле рабочая сила – не капитал, а товар, который индивид (наемный работник) постоянно продает собственнику капитала [Маркс и др., 1964]. Чем выше уровень способностей, тем более сложный и квалифицированный труд в состоянии выполнять работник, соответственно, тем за большую стоимость он может продать свою рабочую силу и тем выше прибыль собственника капитала. Подобные товарно-денежные отношения могли возникнуть лишь на достаточно зрелой стадии экономической эволюции хозяйственной системы в целом, в рамках которой собственник рабочей силы уже имеет свободу распоряжаться ею по собственному усмотрению [Маркс и др., 1960].
Но с точки зрения собственника капитала и средств производства, рабочая сила, то есть способность к труду, является как раз капиталом (переменным), так как имеет все признаки последнего в том смысле, что совместно с землей, постройками, машинами и оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами создает самовозрастание стоимости (или прибавочную стоимость), собственник которой не участвует напрямую своим трудом в этом процессе [Маркс и др., 1969]. Это тем более справедливо, поскольку эволюция хозяйственных систем с ее необратимой селекцией институтов и конкретных форм экономических отношений привела сегодня к рутинизации практики инвестирования хозяйствующих субъектов в поддержание и развитие профессиональных качеств наемных работников (повышение квалификации, переподготовка и пр. как непосредственно на рабочем месте, так и далеко за его пределами). Если бы подобный вид капиталовложений не был экономически эффективным (в традиционном понимании такой эффективности: Δ полезности/ Δ издержек), то закономерным промежуточным эволюционным итогом на данном этапе развития окружающих нас экономических систем и институтов стала бы не рутиниза-ция подобной практики, а ее отрицание.
При этом критика «экономического человека» и целерациональности действий среднестатистического индивида (участника повседневных хозяйственных отношений) давно уже стала привычным элементом многих школ и направлений в экономической теории, и эволюционный подход здесь – не исключе- ние. Но отрицать преобладающий целерациональный компонент в принятии решений на уровне коллективных экономических субъектов нет никакого смысла, причем чем больше масштаб такого субъекта (скажем, крупная корпорация по сравнению с мелкой фирмой), тем более ясными становятся цели (максимизация прибыли и концентрация капитала) и тем рациональнее будет выбор средств их достижения. Иначе говоря, ожидаемая прибыль от вложений в повышение квалификации или переподготовку сотрудников в крупных компаниях, как правило, бывает точно просчитана, что и выступает основой принятия положительных решений о необходимости подобных инвестиций. Мотивация же затрат на образование на индивидуальном уровне несколько иная, зачастую она даже полностью внеэкономическая, но это совершенно не отрицает возможности получения посредством таких вложений более высоких доходов в будущем, хотя последние отнюдь не гарантированы и почти никогда не могут быть просчитаны даже приблизительно.
Можно констатировать, что К. Маркс заложил необходимые и достаточные основы понимания экономической сути как капитала вообще, так и человеческого капитала в частности, хотя сам термин «человеческий капитал», равно как и концепции, целенаправленно и приоритетно рассматривающие данный феномен, появились существенно позже. Более того, К. Маркс по сути даже лишал индивида субъектности в хозяйственных отношениях, представляя последние как обезличенные, хотя совокупные созидательные способности населения он считал главным богатством общества, а это и есть человеческий капитал, согласно современным узким трактовкам последнего.
Среди ученых-экономистов прошлого, подготовивших теоретико-методологическую основу для создания полноценных концепций человеческого капитала, нельзя не отметить и А. Маршалла, который уже совсем близко подошел к такому созданию, предложив термин «персональный капитал», формируемый в результате инвестиций в образование индивида, которые по своей экономической сути подобны инвестициям в капитал вещественный, так как и тот и другой приносят доход, но не в виде прибыли или прибавочной стоимости, а в виде процента на капитал. Правда, А. Маршалл в полном соответствии с принципами методологического индивидуализма и парадигмой «экономического человека» ставил знак равенства между мотивами индивида к накоплению вещественного капитала и капитала персонального в виде вкладов в образование [Маршалл, 1993], что, как мы сегодня знаем, соответствует действительности весьма условно, хотя и очень удобно аналитически.
Результаты эволюции концепций человеческого капитала в ХХ веке
К началу ХХ в. в экономической науке достаточно прочно утвердилось мнение о том, что капиталом выступает отнюдь не сам человек, а приобретенные им знания, умения и навыки, которые становятся капиталом лишь при условии использования их в ходе трудовой деятельности и только с точки зрения собственника средств производства, получающего са-мовозрастание стоимости в виде прибыли. Для наемного работника его способности к труду являются не капиталом, а специфическим товаром, который он продает владельцу капитала. Индивида же методологически правильно называть не владельцем, а носителем собственного человеческого капитала. Кроме того, в указанный период стали появляться первые серьезные предпосылки возникновения более современных расширительных трактовок понятия «человеческий капитал», в частности в него стали включаться не только приобретенные, но и врожденные качества и способности. Несмотря на все это, в первой половине ХХ в. некоторые ученые все еще продолжали считать капиталом самого человека [Fisher, 1906; Вальрас, 2000], хотя такие концепции в дальнейшем не продемонстрировали достаточного эвристического потенциала при применении их к объяснению и пониманию хозяйственных процессов и отношений, эволюционно складывающихся в обозначенный период.
Следующая стадия эволюционной трансформации категории и концепций человеческого капитала в сторону дальнейшего расширения их наполнения и содержания представлена в так называемой «доктрине человеческого ка- питала», где в число его основных элементов, помимо способностей к труду (как приобретенных, так и врожденных), включается еще и здоровье [Schultz, 1971; Becker, 1993; Thurow, 1970], так как и оно в экономических условиях середины и второй половины ХХ в. (равно как и сейчас) формируется во многом в результате значительных по объему инвестиций в человека, которые существенно повышают эффективность его труда и продлевают период трудовой активности, что сегодня даже не требует специального обоснования (всем понятно, что здоровый человек способен трудиться намного лучше). Но в более ранние периоды эволюции хозяйственных систем и отношений здоровье концептуально просто никак не могло рассматриваться в качестве капитала, так как в ХIХ и тем более XVIII в. собственникам средств производства даже не могло прийти в голову осуществлять капиталовложения в здоровье наемных рабочих.
При этом Т. Шульц, а несколько позже и Г. Беккер, так же, как в свое время и А. Маршалл, не считают нужным хотя бы как-то разграничивать мотивацию вложений в человеческий и «нечеловеческий» капиталы, более того, настоятельно подчеркивают, что она одна и та же, равно как и экономические последствия таких инвестиций [Schultz, 1971; Becker, 1993]. В состав «нечеловеческого» капитала они включают любые средства производства, а вложения в человеческий капитал – это очень многие затраты на индивида, как его собственные, так и фирмы или государства, включая расходы на систему здравоохранения, трудовую миграцию, поиски информации о ценах и зарплатах и т. д. Подобные затраты относятся представителями рассматриваемой концепции к капиталовложениям так же, как и инвестиции в обычный капитал, на том основании, что:
-
1. И те и другие требуют отвлечения ресурсов от текущего потребления ради обеспечения более высокого уровня отдачи в будущем. Только индивид получает доход от вложений в собственное образование, фирма – от своих капиталовложений в охрану здоровья или профессиональное обучение сотрудников, а государство – от бюджетных расходов на системы здравоохранения и формального образования.
-
2. И человеческий, и обычный (физический) капитал характеризуются таким свойством, как взаимозаменяемость, то есть отток (эмиграция) высококвалифицированных специалистов из страны или региона сокращает совокупный объем общественного капитала в границах их территорий точно так же, как это происходит из-за экспорта природных ресурсов или оборудования.
На этом основании авторы «доктрины человеческого капитала» полностью отождествляют доходы владельцев двух видов капитала (человеческого и нечеловеческого). Уже здесь присутствуют методологические расхождения с классической интерпретацией понятия и сущности капитала: 1) работник объявляется владельцем, а не просто носителем человеческого капитала; 2) способности, знания, навыки и умения работника (и даже здоровье) считаются капиталом, а не товаром для самого работника; 3) не происходит самовозрастания стоимости без участия ее собственника в этом процессе своим трудом.
Но приверженцы данной концепции пошли и еще дальше. На основании одинаковых экономических последствий инвестиций в оба вида капитала (физического и человеческого) они, как уже говорилось, делают вывод об идентичности мотивации, побуждающей индивида осуществлять такие вложения. В частности, утверждается, что любой работник перед тем, как инвестировать в какой-либо элемент своего капитала, сопоставляет вероятный процент дохода на такие инвестиции со средней нормой дохода (процентной ставкой) на обычный капитал, а индивиды или семьи принимают решения об инвестировании в определенный вид образования, рассчитывая якобы прежде всего на прибыль, которую они ожидают получить за это в будущем.
Здесь мы снова отметим, что, конечно, на уровне коллективных субъектов расходы на образование, здоровье и еще целый ряд физических или даже моральных качеств индивидов методологически верно считать капиталовложениями (исключение составляют, возможно, лишь мелкие фирмы), поскольку для достаточно крупных компаний и тем более для государств такие затраты обязательно приводят к увеличению будущих доходов (или как минимум сохранению таковых на некоем приемлемом для них уровне), тогда как сокращение объемов указанных инвестиций гарантированно повлечет массовое снижение производительности и эффективности труда и, как следствие, падение доходов, хотя и через весьма значительный временной отрезок, когда постепенно начнут выходить из активных трудовых возрастов предыдущие, более здоровые и более образованные поколения. Кроме того, на уровне коллективных хозяйствующих субъектов экономические последствия инвестиций в человеческий капитал не только полностью идентичны капиталовложениям любой другой природы, но и мотивация таковых одна и та же – в ней действительно наиболее ярко выражена именно целерациональная составляющая [Вебер, 1990].
Однако на индивидуальном или семейном уровне рациональный компонент любого поведения или действия, даже чисто экономического, уже существенно снижается. На первый план здесь выходят традиции, привычки, морально-этические соображения, эмоциональные порывы и т. п. И, если в случае с затратами индивида или семьи на образование (собственное или своих детей), еще присутствует чисто экономическая мотивация в виде ожиданий более высоких доходов в будущем (для себя или для своего ребенка), хотя она далеко не всегда является ведущей, то расходы на здоровье (опять же, свое или своих детей) практически никто не соотносит с ожидаемыми доходами, подобная мотивация просто не встречается в повседневных практиках, за исключением отдельных узких профессиональных групп, где для трудовой деятельности требуется именно идеальное здоровье (спортсмены, пилоты самолетов и т. п.).
Среднестатистический же индивид, когда оплачивает услуги учреждений здравоохранения, просто хочет быть здоровым, и, более того, зачастую желание быть здоровым осознанно или неосознанно подменяется у него стремлением хорошо себя чувствовать здесь и сейчас, что далеко не одно и то же (в течение многих лет прикладывать усилия для поддержания своего здоровья, вылечить существующее заболевание или просто побыстрее избавиться от неприятных симптомов). Аналогичным образом родители, заботясь о здоровье своих несовершеннолетних детей, ду- мают об их будущих доходах в последнюю очередь. Эмпирических данных, полностью подтверждающих сказанное, в том числе полученных под руководством автора настоящей статьи, накопилось к настоящему моменту достаточно много, поэтому отождествлять на индивидуальном и семейном уровне мотивацию вложений в обычный и человеческий капиталы как минимум не вполне корректно.
Еще более расширительную трактовку понятия «человеческий капитал» дает так называемая «концепция инвестиций в человека». В частности, здесь уже в него включаются очень многие врожденные и приобретенные качества или свойства индивида, а кроме того, умение поддерживать хорошее настроение, заводить деловые контакты и просто дружбу, уважение к формальным структурам и власти, предпочтения и вкусы людей (не только в сфере потребления товаров и услуг, но и политические, культурные и пр.), мировоззрение, моральные и этические качества населения. В качестве ключевого фактора формирования и воспроизводства человеческого капитала авторы рассматриваемой концепции называют также и человеческое время (помимо физического капитала, природных ресурсов и уже имеющихся знаний, навыков и опыта) [Thurow, 1970; Bowles et al., 1975; Бла-уг, 1994; Harbison, 1962; Махлуп, 1966]. В связи с этим предложенную в рамках данной концепции трактовку понятия «человеческий капитал» можно назвать даже сверхрасширительной.
Но таковой она представляется лишь в рамках классических подходов, тогда как вообще ее появление было строго и однозначно обусловлено всем ходом экономической эволюции глобальной хозяйственной системы, в рамках которой во второй половине XX в. произошло четкое осознание того факта, что не только навыки, знания и высокий уровень образования способны приносить выгоду, но также еще и умение налаживать социальные контакты, выстраивать долгосрочные отношения (в коллективе, с деловыми партнерами и т. п.), конформизм в отношении действующих норм и правил (как формальных, так и неформальных) и многое другое, что в более ранние периоды никак не могло быть отнесено к капиталу. В нашей же работе мы не будем исполь- зовать столь широкое толкование экономической сути человеческого капитала не потому, что оно ошибочно, а в силу более узкой, классической проблематики, рассматриваемой нами. В частности, нас здесь интересуют в первую очередь те элементы человеческого капитала, вложения в которые, равно как и отдача от них, поддаются прямым количественным измерениям, пусть даже и не в денежном эквиваленте.
Помимо расширительной трактовки понятия и сущности человеческого капитала, представители концепции «инвестиций в человека» аналогичным образом подходят и к рассмотрению мотивации индивида при принятии им решений об инвестициях в собственное образование или миграцию в целях поиска работы. Для этого они используют все те же теории о предельной полезности и о предельной производительности, которые описывают человека как целерационально действующего субъекта, но отмечают, что чисто экономическая рациональность на индивидуальном уровне сильно ограничена внеэкономическими факторами, как то: обычаи и привычки, моральные или этические представления и т. д. Л. Туроу специально подчеркивает, что индивид максимизирует именно полезность, а не заработки [Thurow, 1970, p. 30]. Иначе говоря, рациональность на индивидуальном или семейном уровне тоже присутствует всегда, но редко бывает чисто экономической, а потому среднестатистический индивид вполне может пренебречь, например, более высокой зарплатой ради сохранения интересной работы, комфортных условий труда, привычного уклада жизни и т. д. или, если повышение доходов будет сопряжено с неприемлемыми, с его точки зрения, моральными издержками, то есть действие все равно рационально, но эта рациональность иного свойства или уровня.
Было бы неверно утверждать, что эволюция концепций человеческого капитала происходила прямолинейно и равномерно просто в направлении постоянного расширения понятия и сущности данного феномена на протяжении всего периода развития экономической теории как самостоятельной науки вплоть до наших дней. И во второй половине XX в. тоже встречались концепции, авторы которых высказывали иные взгляды на рассматриваемые в данной статье вопросы (альтернативные генеральному исследовательскому тренду). Например, представители так называемой «теории фильтра», во-первых, придерживались очень узкой трактовки понятия «человеческий капитал», включая в него лишь результаты затрат, связанных с образованием, а во-вторых, выступали с резкой критикой теорий Т. Шульца, Г. Беккера, Л. Туроу и их единомышленников. Помимо расхождений в том, что именно следует считать человеческим капиталом, поводом для такой критики выступили и существенные различия в понимании роли системы образования в формировании человеческого капитала и повышении производительности труда посредством этого.
Если авторы и последователи «доктрины человеческого капитала» и концепции «инвестиций в человека» утверждали, что формальное образование само по себе воспроизводит человеческий капитал, благодаря чему труд становится эффективнее, его производительность выше и тем самым достигается благосостояние общества, то сторонники «теории фильтра» считают, что система образования человеческий капитал в таком понимании не формирует, поскольку профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие повысить производительность труда, создаются только в процессе самого труда в течение многих лет, а система образования лишь осуществляет функцию отбора и ранжирования индивидов, обладающих (или не обладающих, обладающих частично, в недостаточной степени и т. д.) такими качествами, которые позволят им в будущем (или, соответственно, не позволят) эффективнее освоить предполагаемую трудовую деятельность (например, дисциплинированность, ответственность, прилежание, пунктуальность, стремление проявить себя и т. п.). Аттестаты, дипломы и число лет обучения, таким образом, не являются подтверждением наличия качественного человеческого капитала у его носителя, они лишь указывают на способность последнего такой человеческий капитал приобрести в процессе трудовой деятельности. Именно поэтому работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более высоким уровнем образования даже там, где без него в принципе можно обойтись [Wiles, 1974; Berg et al., 2003].
Выводы
Теперь вернемся к выделенным нами ранее трем типам элементов любой эволюционирующей системы (независимо от ее природы), выступающим неотъемлемыми признаками наличия самого процесса эволюции:
-
– неизменные во времени (в соответствии с методологией эволюционного подхода в экономической теории мы их назвали элементами наследственности);
-
– видоизменяющиеся во времени без потери собственных системообразующих признаков (так называемые элементы изменчивости);
-
– изменяющиеся необратимо или не сохраняющиеся во времени (соответственно, элементы необратимости).
Применительно к эволюции концепций человеческого капитала на основании проведенного анализа можно утверждать следующее:
-
1. К элементам наследственности относятся такие компоненты и утверждения рассмотренных нами концепций, как:
– основа благосостояния общества – это не материальные ценности, а человеческие качества и свойства;
– чтобы эти качества и свойства могли превратиться в капитал, необходимо осуществлять целенаправленные и долгосрочные вложения в них;
– ключевой составляющей человеческого капитала является образование и оно же выступает главным объектом инвестиций со стороны заинтересованных субъектов.
-
2. К элементам изменчивости необходимо отнести:
– человеческий капитал – это не сам человек, а его врожденные и приобретенные качества и способности (изменчивость этого элемента заключается в том, что он эволюционировал от суженной трактовки, когда под такими качествами и способностями подразумевались только те, которые могут прямо пригодиться в трудовой деятельности, до трактовки крайне расширительной, включающей все без исключения качества и способности);
– врожденные и приобретенные качества и способности индивида становятся капита-
- лом только тогда, когда они появляются на рынке труда в качестве товара, проходят акт купли-продажи и включаются в производство в виде переменного капитала (здесь и далее изменчивость аналогична предыдущему пункту: постепенная эволюция трактовок от узких и конкретных в сторону максимально широких);
– человеческий капитал формируется посредством инвестиций в человека, что равноценно другим капиталовложениям, поскольку требует отвлечения ресурсов в настоящем с целью получения отдачи в будущем;
– инвестиции в человека как будущего полноценного участника производственного процесса осуществляются на нескольких уровнях – инвестиции государства в систему образования, инвестиции предприятий в обучение и переподготовку работников, инвестиции индивидов в собственное развитие (или семей в развитие своих детей).
-
3. В качестве элементов необратимости можно назвать такие:
-
– капиталом является сам человек, население в целом либо какая-то его часть;
-
– ни сам человек, ни его качества и способности не являются капиталом;
-
– человеческий капитал – это результат затрат, связанных только с системой образования (более никаких);
-
– помимо инвестиций, базовым вложением при формировании человеческого капитала, а также его ключевым активом выступает «человеческое время».
Несмотря на длительную эволюцию и значительное число концепций человеческого капитала, их авторы, представители и последователи так и не создали единой теории человеческого капитала, а также не сформулировали «каноническое» и универсальное определение этого понятия. Поэтому каждый ученый-экономист прошлого или настоящего, решивший проанализировать какой-либо аспект проблемы формирования, воспроизводства или эффективности человеческого капитала, всякий раз привносил в его сущность и содержание что-то свое, какие-то элементы, в наибольшей степени отвечающие цели и задачам именно его исследования. Неизменным же оставалось только то содержательное ядро, которое образуют перечисленные выше эле- менты наследственности концепций человеческого капитала.
Здесь системообразующими выступают те составляющие человеческого капитала, объем и структуру инвестиций в которые принципиально возможно рассчитать и проанализировать, а также оценить отдачу от них, что, как уже отмечалось выше, является классическим экономическим подходом. Первая из таких составляющих никогда и ни у кого не вызывала сомнений, изначально относившись к элементам наследственности любых концепций, имеющих хотя бы косвенное отношение к человеческому капиталу. Речь идет об образовании в любых его проявлениях, поскольку инвестиции в него формируют у индивида те самые качества и свойства (пусть даже на основе развития уже имеющихся у него, врожденных), без которых, во-первых, нет смысла вообще говорить о человеческом капитале (это будет уже рассмотрение чего угодно, но только не человеческого капитала), а во-вторых, не будет воспроизводства способности к общественно-полезному труду, приносящему доход носителю человеческого капитала, работодателю и государству.
Второй такой составляющей человеческого капитала, целесообразность инвестиций в которую, а также возможность количественной оценки их эффективности не вызывает сомнений, выступает здоровье. Здесь необходимо отметить, что последнее, в отличие от образования, включается в число составляющих человеческого капитала далеко не во всех концепциях и в этом смысле является элементом изменчивости, а не наследственности, но во-первых, здоровье выступает базовой ценностью для любого индивида и любого общества, так как, если человек не будет здоров, никакие инвестиции в его образование не принесут ожидаемых доходов (поскольку он просто не сможет эффективно и полноценно трудиться), а во-вторых, практика инвестиций в здоровье работников давно уже прошла фазы производственной новации и рыночной селекции, находясь в нынешних условиях хозяйствования на стадии фирменной рутинизации, что обусловлено эволюционным отбором наиболее эффективных экономических практик и отношений. То же самое можно сказать о любых других уровнях инве- стирования в здоровье как элементе человеческого капитала, вплоть до государства, финансирующего систему здравоохранения: заботиться о здоровье населения – это не только гуманно, но и выгодно.
Список литературы Человеческий капитал как экономическая категория: эволюция концепций и современное понимание
- Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т. 1 / Л. И. Абалкин // Политическая экономия. - М. : НПО «Экономика», 2000. - 794 с.
- Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Балуг. - М. : Дело ЛТД, 1994. - 720 с.
- Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 29: Ча-ган - Экс-ле-Бен / гл. ред. А. М. Прохоров. -М. : Сов. энцикл., 1978. - 639 с.
- Вальрас, Л. Элементы чистой политической экономии / Л. Вальрас // М. : Изограф, 2000. - 448 с. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. -
- М. : Прогресс, 1990. - 808 с. Доватур, А. И. Политика в политии Аристотеля / А. И. Доватур. - М. ; Л. : Наука, 1965. -393 с.
- Иншаков, О. В. Эволюционный подход в стратегической трансформации экономических систем: общие принципы для различного масштаба / О. В. Иншаков // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. -№31 (124). - С. 3-10.
- Иншаков, О. В. Экономическая генетика как основа эволюционной экономики / О. В. Иншаков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2006. - № 10. - С. 6-16.
- Маевский, В. И. Экономическая эволюция и экономическая генетика / В. И. Маевский // Вопросы экономики. - 1994. - №9 5. - С. 4-21.
- Макаров, В. Л. О применении метода эволюционной экономики / В. Л. Макаров // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 18-26.
- Маркс, К. Собрание сочинений : в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М. : Политиздат, 1955-1974. -Т. 23. - 1960. - 920 с. ; Т. 26, ч. 3. - 1964. - 681 с.
- Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 2-е. изд. - М. : Политиздат, 1969. - Т. 46, ч. 2. - 244 с.
- Маршалл, А. Принципы политической экономии. В 3 т. Т. 1 / А. Маршалл. - М. : Прогресс, 1993. - 416 с.
- Махлуп, Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. - М. : Прогресс, 1966.- 462 с.
- Милль, Дж. Основы политической экономии. В 3 т. Т. 1 : пер. с англ. / Дж. Милль. - М. : Прогресс, 1980. - 494 с.
- Петти, У Экономические и статистические работы / У Петти. - М. : Соцэкгиз, 1940. - 323 с.
- Полтерович, В. М. Кризис экономической теории / В. М. Полтерович // Экономическая наука современной России. - 1998. - № 1. - С. 46-66.
- Рикардо, Д. Сочинения. Начала политической экономии и налогового обложения. В 5 т. Т. 1 / Д. Рикардо. - М. : Госполитиздат, 1955. - 360 с.
- Смит, А. Исследования о природе и причинах богатства народов. В 2 т. Т. 2 / А. Смит. - М. : Наука, 1993. - 570 с.
- Becker, G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education / G. Becker. - Chicago : The University of Chicago Press, 1993. - 412 p.
- Berg, A. Education and Jobs: The Great Training Robbery (Foundations of Sociology) / A. Berg, S. Gorelick. -N. Y. : Percheron Press, 2003. - 266 p.
- Bowles, S. The Problem with Human Capital Theory: A Marxian Critique / S. Bowles, H. Gintis // The American Economic Review. - 1975. - Vol. 65, № 2: Papers and Proceedings of the Eighty-seventh Annual Meeting of the American Economic Association. - P. 74-82.
- Fisher, I. The Nature of Capital and Income / I. Fisher. -L. : Macmillan & Co, 1906. - 427 p.
- Harbison, F. The Strategy of Human Resources Development in Modernizing Economy / F. Harbison // UN. ECA Working Party on Economic and Social Development (1962, Jan. 15-27: Addis Ababa, Ethiopia). - Electronic text data. - Mode of access: https://repository. uneca.org/bitstream/handle/10855/13108/Bib-54335.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - Title from screen.
- Schultz ,Т. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research / T. Schultz. - N. Y. : The Free Press, 1971. - xii, 272 p.
- Thurow, L. Investment in Human Capital / L. Thurow. -Belmont, California : Wadsworth, 1970. - 145 p.
- Wiles, P. The Correlation Between Education and Earnings: The External Test-not-Content-Hypothesis (ETNC) / P. Wiles // Higher Education. - 1974. - Vol. 3, № 1. - P. 43-57.