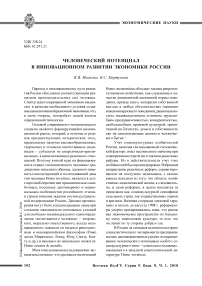Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики России
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14967707
IDR: 14967707 | УДК: 338.24
Текст статьи Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики России
Переход к инновационному пути развития России обусловлен соответствующим развитием производительных сил человека. Спектр задач современной экономики выдвигает в качестве необходимого условия создание цивилизованной рыночной экономики, что, в свою очередь, востребует людей вполне определенной типологии.
Многочисленными исследованиями засвидетельствовано, что среднестатистический
Homo oeconomicus обладает такими репрезентативными свойствами, как следование в качестве доминантной жизненной нормы поведения, прежде всего, интересам собственной выгоды в любых обстоятельствах (принцип максимизирующего поведения), рациональностью, индивидуализмом, эгоизмом, трудолюбием, предприимчивостью, конкурентностью, свободолюбием, правовой культурой, ориентацией на богатство, деньги и собственность как на самодовлеющие ценности человеческого бытия 1.
Учет социокультурных особенностей России, включая так называемый «человеческий фактор», имел несомненное значение при планировании стратегии и тактики рыночных реформ. Но в действительности учет этих особенностей был проигнорирован. Избранное направление рыночных реформ, сориентированное на постулаты экономикса, с самого начала исходило из того, что область хозяйственно-экономической жизни, а следовательно, и сами реформы, в целом находятся за пределами как социокультурной специфики отдельных стран, так и нравственных оценок и критики. Начиная с периода «шоковой терапии» и вплоть до августа 1998 г. реформаторы упорно придерживались идеи, что рынок как экономическое пространство по большому счету внеположен культуре, то есть что он лежит по ту сторону добра и зла.
В России за семидесятилетнюю историю социалистического эксперимента предпринимались целенаправленные усилия по выращиванию человеческого потенциала особого социокультурного типа – «советского человека», именуемого в западной советологической литературе Homo soveticus.
Радикальный гуманизм опирается на образ некоего «идеального», «должного» человека, лишенного любых меркантильных, утилитарно-эгоистических соображений и целей. Однако такого человеческого потенциала не только никогда не существовало в истории, его вообще не может быть, ибо безграничный и перманентный альтруизм слишком очевидно противоречит действительной человеческой природе. А следовательно, сама задача формирования человека «нового типа» – Homo soveticus – с самого начала была обречена на поражение.
Тем не менее долговременные усилия в данном направлении привели к определенным и, увы, неожиданным результатам. Наслоившись на традиционную российскую ментальность, они породили своеобразного социокультурного «мутанта». Среднестатистический Homo soveticus сплошь и рядом не в ладах с элементарной порядочностью. Например, доносительство было, а для многих и по сию пору остается делом «чести, доблести и достоинства». Корпоративная солидарность в пределах отдельных коллективов и социальных групп странным образом сочетается с повышенной нетерпимостью, отсутствием доброжелательства и толерантности на уровне «большого» общества 2. Но главное, советский человек в повседневной жизни не стал менее меркантильным, чем люди иных культур, зато, прикрываясь разговорами о собственном антимеркантилизме, он стал гораздо менее заинтересованным в результатах напряженного и добросовестного труда. Уне-го были серьезно подорваны и извращены трудовая мотивация и трудовая этика. Ему имманентны убеждения, согласно которым «только тех, кто любит труд, идиотами зовут», «работа не волк, в лес не убежит», «от трудов праведных не наживешь палат каменных», «от добросовестной работы только горб вырастает», «не подмаслишь – не поедешь, не обманешь – не продашь» и т. п.
Именно этот фактор и был проигнорирован при проведении реформ. Предполагалось, что Homo soveticus принципиально ничем не отличается от Homo oeconomicus. Отсюда и идея ввести механизм рыночного хозяйствования в постсоветской России посредством «шоковой терапии»3. Ведь это удалось осуще- ствить в Польше, Венгрии, Чехии и т. д. Но то, что успешно осуществилось в большинстве стран Восточной Европы, оказалось неосуществимым в России. Этому нашли следующее, ныне весьма распространенное, объяснение: в данных странах в большей или меньшей степени сохранился необходимый для цивилизованного рынка тип индивидов, наличествуют рыночный хозяйственный менталитет и этос. Поэтому и в России необходимо проводить такую социальную политику, чтобы целенаправленно трансформировать Homo soveticus в Homo oeconomicus.
Однако трудовая мотивация населения в результате проводимых реформ парадоксальным образом не меняется на западную: сделать побольше, чтобы получить побольше. У большинства она остается прежней: сделать поменьше (еще лучше вообще ничего не делать, а просто украсть, обмануть, отнять силой), получить побольше.
И дело не в том, что Homo soveticus утратил работоспособность (как раз советский человек в известные периоды идеологического подъема показывал чудеса работоспособности), а в том, что он деморализован. За семидесятилетний период «социалистического строительства» людьми утрачена не работоспособность, а то морально-нравственное состояние души, которое этики англо-шотландской школы сентиментализма (к ним принадлежал и основатель классической политэкономии А. Смит) в XVIII в. именовали «моральным чувством» и об утрате которого своими соотечественниками к концу века двадцатого с горечью пишет, например, В. Распутин в «Пожаре». Утрачено то моральное чувство, которое, как полагали многочисленные философы и этики предшествующих эпох, врождено человеку именно как человеку, утрачена морально-нравственная среда и вокруг нас.
В действительности существует не одно, а как минимум, три разных понятия «Homo oeconomicus»:
-
1. Экономическое – в экономиксе, где индивид, действующий на рынке, действительно лишен любых этических мотиваций.
-
2. Социологическое (Вебер, Зомбарт), в котором сущность Homo oeconomicus определяется через специфический комплекс мо-
- рально-этических мотиваций так, что без наличия данного комплекса о Homo oeconomicus не может быть и речи.
-
3. Философское (Маркс, Шпенглер, Фромм), в котором «рыночный человек» определяется не просто как культурный тип, индифферентный в моральном отношении, а как существо принципиально аморальное (имманентно отчужденное от своей «родовой сущности»). Именно его противоположностью и должен был стать Homo soveticus как практическая реализация радикально-гуманистического проекта «должного» человека.
Ясно, что именно социологическое понятие «Homo oeconomicus» более соответствует реальному западному человеку как носителю определенной культуры, рыночного этноса. Оно менее абстрактно, чем собственно экономическое или философско-радикальное, уже в силу самих особенностей социологии. Иначе говоря, западный человек как реальный Homo oeconomicus не является ни лицом, индифферентным в моральном отношении, ни тем более имманентным аморалистом. Наоборот, лишь благодаря наличию у него некоторой твердо фиксированной системы этических ценностей и мотиваций он и оказывается индивидом, славящимся своим трудолюбием и экономической производительностью.
По А. Смиту, люди обладают ограниченной рациональностью. Именно поэтому для общества оказывается лучше, когда каждому позволено преследовать свои личные интересы. А. Смит признает за человеком право на полную реализацию как экономических, так и всех прочих устремлений, допустимых в рамках законности. Но у него экономическая свобода неразрывно связана с нравственным чувством, и им определяются ее границы: «Человек ни в коем случае не смеет отдавать себе предпочтение перед прочими людьми в такой мере, чтобы причинить им вред ради личной пользы, хотя бы последняя была несравненно значительнее, чем наносимый им вред».
В то же время если индивид не нарушает законов нравственности и справедливости, он свободен следовать своему собственному интересу и конкурировать с другими людьми любым угодным ему способом. Для А. Смита это естественно, ибо в его системе взгля- дов человек – изначально нравственное существо, и он априори знает границы морально допустимого: что осуждается совестью и нравственными чувствами, то вредно и для общества 4. Нравственные и экономические стимулы нераздельно соединены в человеке, а потому нет необходимости обращаться к внешним силам, прежде всего государству, чтобы придать экономической деятельности нравственную ориентацию.
Радикальному гуманизму марксистско-ницшеанского толка в новоевропейской философии всегда противостояла и противостоит версия гуманизма в лице Локка, Смита, Юма, Канта, которая в ХХ в. была развита в трудах Поппера, Хайека, Мизеса и др. и которую можно условно назвать «реалистическим гуманизмом». Данное направление гуманистической мысли, воспроизводя «абстрактный образ» человека, не фиксирует в нем либо только утилитарно-эгоистические, либо только альтруистические черты, но те и другие одновременно, не смешивая и не противопоставляя их, не игнорируя и не «замалчивая» одни с целью одностороннего подчеркивания других.
Именно позиция реалистического гуманизма представляется методологически наиболее адекватной для объяснения роли этики в рыночной экономике. С этой позиции рынок и мораль – явления отнюдь не взаимоисключающие, а наоборот – взаимодополнимые, взаимообусловленные. Целостность человека, его бытия и сознания не позволяет противопоставлять одни сферы человеческой жизнедеятельности другим по принципу «применимости» или «неприменимости» в них нравственных норм.
Пример российских рыночных реформ доказывает, что полнокровная «работа» рынка в деформированной нравственной среде невозможна. Эффективное функционирование рыночных механизмов предполагает определенный – и достаточно высокий – уровень развития этической культуры общества, большую степень доверия, которые ныне измеряются количественно и приобрели (в институциональных теориях) статус экономических категорий 5. Тем самым в основании цивилизованной рыночной экономики обнаруживается моральность индивида и
104 В.В. Иванова, В.С. Кортунова . Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики России
общества, а в основании моральности – свободный рынок как такое условие, которое обеспечивает индивидуальную свободу человека, а следовательно, возможность его нравственного самоопределения и ответственности перед обществом и самим собой. Это и позволяет говорить о взаимообусловленности и взаимосвязи цивилизованного рынка и этики.
Это позволяет также оценить человеческий потенциал инновационной России в перспективе ее постиндустриальной модернизации и определить стратегические направления социокультурной политики 6. Несомненно, что в данной перспективе Homo soveticus как господствующий тип современного среднестатистического россиянина обладает, наряду с отмеченными недостатками, целым рядом очевидных достоинств: образованностью, мобильностью, инициативностью, достаточно высокой (в сравнении с «западоидом») индивидуальной культурой, работоспособностью в целом не меньше той, которая свойственна западному человеку, при создании, конечно, соответствующих стимулов к труду. То, чего действительно «недостает» Homo soveticus как определенному типу личности, так это системы развитых моральных понятий и представлений, что вкупе с другими факторами приводит к формированию в стране анархокриминального, нецивилизованного рынка. Отсюда задача реформации страны предполагает проведение такой социокультурной политики, которая позволила бы создать условия для возрождения «естественного», нормального типа личности, каковой является Homo moralis.
Однако, как следует из анализа российских реформ минувшего десятилетия, в стране взят курс на формирование не «естественного», морального человека, а «экономического человека» в смысле абстракции экономикс или даже в чисто марксистском (видимо, близком и понятном реформаторам) смысле – как существа эгоистически безнравственного. В разнообразных программах электронных средств массовой информации, периодике, изданиях для молодежи идеалом выступает индивид, не очень отягощенный нрав- ственными ценностями или свободный от них вообще. Об этом свидетельствует непрерывное воспевание экранной «сладкой жизни», преступности, насилия, навязчивый показ «мыльных опер» и игр, где «за просто так» выигрываются миллионы, и т. д. и т. п. Вновь взят «большевистский курс» на сознательное выращивание «должного» человека, но на сей раз прямо противоположного «коммунистическому идеалу».
Между тем постиндустриальная перспектива социокультурной реформации России состоит лишь в одном: необходимо прекратить конструировать человека – будь-то Homo soveticus или Homo oeconomicus, а предоставить реальную социальную и идеологическую свободу для роста и «самопостроения» естественного человеческого потенциала – творческой личности, имеющей право на выбор и на ошибку, никогда не завершенной. При этом сказанное ни в коем случае не следует понимать так, что государству следует «отстать» от своих граждан и бросить их на произвол судьбы. Как раз наоборот – государству необходимо занять несравнимо более активную позицию в социальной сфере, но эта политика должна быть направлена не на «формирование» человека, а обеспечение его реальной свободы, с тем чтобы он имел право индивидуального выбора.
Список литературы Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики России
- Баллестрем К. Г. Homo oeconomicus? Образы человека в классическом либерализме//Вопросы философии. -1999. -№ 4. -С. 49.
- Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. -М.: Новый мир, 1994. -С. 67.
- Олейник А. Н. Издержки и перспективы реформ в России: институциональный подход//Международная экономика и м
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: Наука, 1962. -С. 58.
- Олейник А. Н. Указ. соч. -С. 89.
- Кадомцева С. В. Развитие человеческого потенциала и социальная политика государства//Вестн. Моск. ун-та. -Сер. 6, Экономика. -2004. -№ 3. -С. 118.