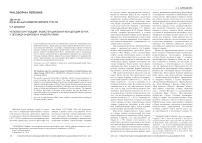Человек бунтующий: экзистенциальная концепция бунта у Леонида Андреева и Альбера Камю
Автор: Демидова Серафима Александровна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной для современных социально-гуманитарных наук проблематике бунта. Автор предлагает рассмотрение феномена бунта как экзистенциальной проблемы на примере литературно-философского творчества Леонида Андреева и философии Альбера Камю. Особое внимание уделяется анализу понятия «метафизический бунт», занимающего одно из центральных мест в системе художественных и философских координат двух мыслителей. Подходы Андреева и Камю к природе бунта, видам и формам его выражения являются продуктивными для последующих философских, культурологических, исторических концепций бытия человека.
Л.н. андреев, а. камю, бунт, экзистенциальный выбор, смысл жизни, смерть, свобода, абсурд
Короткий адрес: https://sciup.org/170175748
IDR: 170175748 | УДК: 141.32
Текст научной статьи Человек бунтующий: экзистенциальная концепция бунта у Леонида Андреева и Альбера Камю
Проблема бунта является одной из сквозных тем и литературно-философского творчества русского писателя, публициста, драматурга, мыслителя Леонида Николаевича Андреева (1871 -1919), и идейного наследия французского прозаика, драматурга, эссеиста, философа Аль бера Камю (1913-1960). Оба эти мыслителя, жившие в разные эпохи, на удивление интеллектуально созвучны в своем устремлении объявить категорию «бунта» одним из основополагающих понятий собственных оригинальных концепций человека. Герои-бунтари Андреева во многом идейно предопределили «взбунтовавшегося человека» Камю. И хотя о каком-либо заимствовании французским мыслителем андреевских идейно-концептуальных построений речи вестись не может, необходимо отметить общие тенденции в экзистенциальном по своей сути творчестве Андреева с традициями западноевропейской философии от С. Кьеркегора до М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. Многие взгляды Андреева предвосхитили, а отчасти даже определили философские идеи и формулы французского экзистенциализма, а также новые способы и средства выражения экзистенциальной сущности кризисного, «ломающегося» сознания нового столетия.
Исследуя проблему бунта у Андреева и Камю, можно с уверенностью сказать, что Андреев, вынеся экзистенциальные уроки Ф.М. Достоевского и Ф.В. Ницше, стоит у истоков философии о людях «бунтующего духа», в то время как у Камю «философия бунта» получает свое последовательное развитие и наиболее полную, законченную форму. Идейно-эстетическое наследие Андреева и Камю можно смело охарактеризовать как «бунт в искусстве». Именно искусство, которое «наделяет формой ценности, неуловимые в потоке вечного становления» [5, с. 320], может окончательно прояснить для нас смысл бунта, так как бунт представлен в нем «по ту сторону истории, в чистом состоянии, в своей первозданной сложности» [5, с. 316]. По Камю, творчество - это тяга к единению и в то же время отрицание мира. Но творчество всегда отрицает мир за то, чего ему недостает, во имя того, чем он, мир, хотя бы иногда является. Выдающиеся произведения искусства не могут и не должны быть отделены от реальности в силу того, что вся безмерность их величия остается именно земной (см.: [5, с. 81]). Сочинения Андреева и Камю, монотонно и страстно повторяя темы и мотивы, которые «оркестрованы самим миром», изначально заключают в себе «мощный освободительный заряд» бунта художников-философов против действительности.
Мыслители синкретического толка Андреев и Камю сделают показательный для понимания общности их мышления выбор «писать, прибегая к образам, а не к рассуждениям» (А. Камю) [5, с. 79]. Однако стоит заметить, что, может быть, не всегда логическая, но интуитивная точность рассуждений несомненно присутствует в их образно-символических системах, очевидными признаками которых являются мифотворчество (создание романов-мифов), прит- чевость, размывание граней между философией и литературой, тенденция к символизации действительности. «Философия в образах» Андреева и Камю, являясь свидетельством тотальной экзистенциальной ситуации, в которой оказался человек XX в., обращает нас к духовным истокам бунта, зримым только для философствующих писателей. Проникая с помощью художественного слова в сущность бытия, писатели, в отличие от академических философов, могут обнаружить всеобщие высшие ценности и «похитить их у истории». Таким образом, бунт, по мысли Камю, обретает свое воплощение только в искусстве (например, в художественной литературе1) как наиболее адекватном средстве многогранного выражения «высочайшего» бунтарского порыва.
Можно без преувеличения сказать, что идея бунта является отправной точкой художественно-философского исследования Андреевым и Камю бытия человека в мире. У художников-метафизиков Андреева и Камю нет ни одного сочинения, в котором, так или иначе, не поднималась и экзистенциально не осмыслялась бы проблема бунта. Практически все без исключения их произведения можно охарактеризовать как «чистейший продукт бунтарского творчества». Философское решение проблемы бунта нашло свое разностороннее отражение в художественно-философских произведениях Андреева «Рассказ о Сергее Петровиче», «Жизнь Василия Фивейского», «Жизнь Человека», «Иуда Искариот и другие», «Царь Голод», «Мои записки», «Мысль», «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Анатэма», «Савва», «Красный смех», «Сашка Жегулев» и в разноплановых сочинениях Камю «Гость», «Посторонний», «Калигула», «Чума», «Осадное положение», «Миф о Сизифе», «Бунтующий человек», «Праведники», «Письма о бунте» и многих других. Перечисленные выше произведения Андреева и Камю, несомненно, «являются потрясающим свидетельством единственного достоинства человека: упорного бунта против своего удела, настойчивости в бесплодных усилиях» [5, c. 81], явленного в «образах живого, дышащего слова» (А.С. Волжский).
Симптоматично, что Андреев предвосхищает интеллектуальный путь «зарождения, развития, ужаса и радости бунта» [4, с. 15], по которому потом пройдет Камю, от бунта метафизического к бунту историческому через бунт гносеологический («самоубийство логическое») и творческий («бунт в искусстве»), Камю в одной из своих философских тетрадей, обращаясь к истокам и этапам развития бунта, подтвердит радость «отказа от примирения со своим уделом» для человека: «Я не покорюсь. Я буду безмолвно протестовать до конца. <...>. Я прав в своем бунте, и я буду шаг за шагом идти к радости, этой вечной страннице на земле» [6, Т. 5, с. 42]. К сожалению, рамки статьи не позволяют вместить всесторонний анализ всех видов и форм бунта. В связи с этим я предприму попытку лишь подступиться к проблеме бунта у Андреева и Камю, контурно наметив возможности и перспективы в рассмотрении экзистенциально окрашенного понятия «метафизический бунт» в творчестве русского и французского мыслителей.
Проблемы одиночества, отчуждения, смысла жизни и смерти, свободы, абсурда, являющиеся магистральными для «полифонического» творчества Андреева и Камю, цементируются у этих писателей-философов проблемой бунта. Человек бунтующий Андреева и бунтующий человек Камю восстают против Бога, разума, традиции, культуры, морали, общества, истории (и в этом Андреев и Камю встречаются с Достоевским и Ницше). В дневнике от 1 августа 1891 г. двадцатилетний Андреев записал: «Я хочу показать всю несостоятельность тех фикций, которыми человечество до сих пор поддерживало себя: Бог, нравственность, загробная жизнь, бессмертие души, общечеловеческое счастье и т.д. Я хочу показать, что одна только смерть дает и счастье, и равенство, и свободу, что только в смерти и истина, и справедливость, что вечно одно только “не быть”, [что] все в мире сводится к одному и это одно, вечное, незыблемое есть смерть» (Русский архив в Лидсе. Андреев Л.Н. Дневник. 1891.05.15 - 1891.08.17. MS. 606. Е. 4. Л. 91-92). Духовный бунт андреевского «голого человека на голой земле» (см.: [1, Т. 2, с. 385]) и «абсурдного человека» Камю явится бунтом, рожденным в столкновении между иррациональностью мира и исступленным желанием ясности. Человек Андреева и Камю будет стремиться к ясности мышления и языка («борьба интеллекта с превосходящей реальностью») и равным образом безуспешно требовать прозрачности от бытия. Наделенные по праву своего рождения свободой, герои-бунтари Андреева и Камю оказываются в ситуации экзистенциального выбора - феномена, обусловливающего сущность человека и смысл человеческого существования.
В контексте идей Андреева и Камю бунт окажется неизбежным следствием «пограничной ситуации» (К. Ясперс), когда «нужно выбирать между созерцанием и действием. Это и называется: стать человеком» [5, с. 71]. В экзистенциальной ситуации, порожденной страхом, отчаянием, тревогой, чувством одиночества, заброшенности и оставленности, наступает момент «прозрения», отличительной чертой которого является экзистенциальный или метафизический ужас2. Открытую впервые Л.Н. Толстым «пороговую» ситуацию «лицом к лицу» с экзистенциальными и метафизическими «данностями» существования сначала Андреев, а следом и Камю спроецируют на каждодневность человеческого бытия. Перед осознанным выбором между бунтом или сознательным отказом от бунта они поставят не протестующего раба, восстающего против несправедливого социального устройства, а героя-личность - метафизического бунтовщика, «оспаривающего конечные цели человека и вселенной» (Камю) и обладающего решительностью и смелостью принять «мир без Бога, но и без Дьявола» (Андреев).
Что же представляют собой герои-бунтовщики Андреева и Камю? Бунтующий человек у этих мыслителей - это человек, говорящий «нет». Он говорит твердое «нет» своему трагическому уделу, уготованному ему как представителю рода человеческого. Он решительно говорит «нет» абсурдному мирозданию, которым он обделен и даже обманут. И посему говорящий «нет» человек, который по своей природе изначально есть «вопрошание и бунт», - бунтарь метафизический. В письме от 1904 г. к В.В. Вересаеву Андреев, оказавшийся в своих философских размышлениях о «мире-демоне» и человеке «между да и нет», напишет: «Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное “нет” - сменится ли оно хоть каким-нибудь “да”? И правда ли, что “бунтом жить нельзя”? Не знаю. Не знаю.
Но бывает скверно. Смысл, смысл жизни, где он? Бога я не приму пока не одурею, да и скучно вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно, - но конец где? Стремление ради стремления - так ведь это верхом можно поездить для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо. А ответа нет, всякий ответ - ложь. Остается бунтовать - пока бунтует-ся...» [3, с. 404-405].
Камю словно продолжает «бунтарскую мысль» Андреева, но при этом в своих размышлениях идет значительно дальше. Бунтующий человек, по мысли Камю, отрицая, не отрекается. Человек бунтующий - человек, одновременно с «нет» говорящий «да». В «да» бунтующий человек утверждает собственный бунт («нет») как готовность восстать и сражаться против всего мира. Именно своим «страстным утверждением» бунт отличается от простого возмущения, несогласия или мятежа3. В любом внешне негативном бунте, взламывающем бытие и помогающем человеку выйти за его пределы, сокрыт глубокий позитивный смысл, указывающий на наличие в человеке того по-настоящему для него важного, что требует защиты. Человек бунтующий в своем первом, а потому истинном порыве протестует против посягательств на себя как такового. Он осознанно борется за целостность своей личности, за свое единственное и неповторимое «Я». Именно по этой причине многие бунтари принимают смерть или заканчивают жизнь самоубийством4 в своем бунтарском порыве, являющемся следствием метафизического прозрения «мировой скорби».
Метафизические бунтари Андреева и Камю в своем бунте впадают в крайнюю непримиримость «Все или ничего». В границах, предо- пределенных судьбой и природой (Камю) или же «роком, дьяволом или жизнью» (Андреев), человек всегда имеет право на бунт против «страшного мира» абсурда - дочеловеческой и внечеловеческой всеобщей бессмысленности мироустройства. Непрерывный, героический и безнадежный бунт, по Андрееву и Камю, является единственно верным следствием из ответа на вопрос: «Как можно себя вести, если не веришь ни в Бога, ни в разум?» [8, р. 1427]. Человек бунтующий бросает вызов Богу5, богам, року, судьбе, человеческому знанию, своему разуму, смерти, природе, и это наполняет его существование смыслом в мире, где «не на что опереться ни в себе, ни вовне» [7, с. 327]. Свобода «быть против» позволяет человеку противостоять равнодушному «молчаливому» миру и принимать свою судьбу даже через бунт «молчаливый», «тихий». «В бунтарстве есть страсть к свободе. <...> Бунту не может принадлежать последнего слова, но на путях человека ввысь бунт может играть огромную роль» [2, с. 64]. Выбранный человеком бунтующим путь бунта есть его восстание против своего удела и против всего мироздания. Так, последняя и окончательная истина абсурдного мира (Андреев и Камю поставят своих героев «лицом к лицу» с абсурдом) являет собой вызов не смиряться с «миром боли и страданий» вопреки безнадежности. И это и есть метафизический бунт как дерзкое несогласие человека с миром абсурда. У Андреева абсурд - Он, или Некто в Сером -«верный спутник Человека во все дни его жизни, на всех путях его» [1, Т. 2, с. 444]. Именно Некто в Сером (главный герой философской пьесы «Жизнь Человека», а не Человек6) безразлично констатирует брошенность человека в «бытие-к-смерти» (М. Хайдеггер): «Так умрет Человек. Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем» [1, Т. 2, с. 444].
Размышления Андреева и Камю над идеей бунта приводит мыслителей независимо друг от друга к мысли о том, что человек бунтующий -человек, живущий до или после священного (герои-богоборцы Андреева и Камю). Метафизический бунтарь требует человеческого порядка, при котором ответы будут человеческими, а именно - разумно сформулированными. Однако человеческий разум, человеческое разумение, жаждущее ясности и единства, сталкивается с «неразумным молчанием мира» (Камю), где «так много богов и нет единого вечного Бога» (Андреев). Бунтовать против «невыносимого» мироустройства, против «увиденной бессмысленности», «непонятного и несправедливого удела человеческого», против, наконец, «смерти Бога» будут андреевские идеологи-бунтари Сергей Петрович, Керженцев, Василий Фивейский, о. Иван, Савва, Иуда Искариот, Магнус, дедушка из «Моих записок», Человек из «Жизни Человека» и метафизические бунтари Камю Мерсо, Калигула, персонажи «Чумы», Сатана, Прометей, Сизиф, Дон Жуан, братья Карамазовы и иные. Эти герои-бунтари Андреева и Камю станут решительно и смело заявлять, что они обделены и жестоко обмануты самим мирозданием. Они будут безуспешно стараться разорвать «круг железного предначертания», «с темным началом и темным концом» (Андреев). «Люди умирают, и они несчастны» [6, Т. 1, с. 259], и «все бедные. Все плачут. И нет помощи!» [1, Т. 1, с. 516] ни на земле, ни на опустевших небесах. А потому «даже сама скорбь лишена смысла» [6, Т. 1, с. 314]. Следовательно, вместо «мировой скорби» остается лишь бунт «мятежного духа» в обезбоженном абсурдном мире.
Любой бунт у Андреева и Камю есть прежде всего борьба человека за свое человеческое достоинство. Метафизический бунт предполагает признание величия земного существования, а значит и утверждение величия самого человека. Вот почему Человек в «Жизни Человека» показан Андреевым в образе «рыцаря» без меча и щита (Дон Кихот XX в.), который хочет и может до конца воевать со своей судьбой. И это свое достоинство андреевский Человек и бунтующий человек Камю утверждает уже тем, что даже будучи безоружным, борется за свободу и справедливость, честь и достоинство, любовь и творчество, жизнь вопреки смерти, смысл своего существования, а не мирится со своим униженным положением. Метафизический бунтарь «вечно возобновляет противостояние загадочному бытию» несмотря на трагическую убежденность в неуспехе. Но бесполезность нимало не ослабляет бунта, она его только разжигает (см.: [6, Т. 5, с. 42]). Бунт является определяющей идеей для понимания экзистенциального смысла свободы у Андреева и Камю, которая всегда неизбывно трагична, ибо рождается из внутреннего раздвоения человеческого духа, бьющегося без надежды над неразрешимыми вопросами бытия.
Зрелый Андреев, как и впоследствии поздний Камю, придут к общему для них мнению, что метафизический бунт не может быть вызван эгоистическими порывами индивидуальной души. Только в подлинном, а не мнимом, показном бунте рождаются все универсальные гуманистические ценности. Камю будет утверждать, что для себя самого индивид вовсе не является той ценностью, которую он хочет защищать. Во вселенском бунте человек сближается с другими, у него возникает чувство «сопричастности», «братства», «общности», и с этой точки зрения человеческая солидарность является метафизической. Экзистенциальная «философия бунта» Леонида Андреева и Альбера Камю, актуальная и по сей день, есть утверждение не только бытия отдельного человека (я бунтую, следовательно, мы одиноки), но и возможной общечеловеческой солидарности, смысл которой раскрывается в знаменитом перифразе Камю: «Я бунтую, следовательно, мы существуем» [5, с. 198]. Говоря о «солидарности, рождающейся в оковах», Камю подчеркивает, что бунт открывает в человеке то, за что всегда и до последнего вздоха стоит бороться. И именно в противостоянии-борьбе против «мира такого, какой он есть» человек становится человеком.
Список литературы Человек бунтующий: экзистенциальная концепция бунта у Леонида Андреева и Альбера Камю
- Андреев Л.Н. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1990-1996.
- Бердяев H.A. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991.
- Вересаев В.В. Леонид Андреев//Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1961. С. 395-421.
- Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка//Литературное наследство. Т. 72. М.: Наука, 1965.
- Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
- Камю А. Сочинения: в 5 т. Харьков, 1998.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм -это гуманизм//Сумерки богов. Ф. Ницше, 3. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр. М., 1989. С. 319-344.
- Camus, A., 1965. Essais. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.