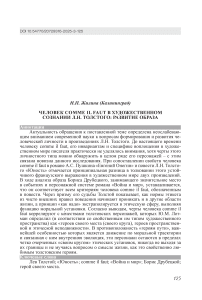Человек comme il faut в художественном сознании Л.Н. Толстого: развитие образа
Автор: Н.П. Жилина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность обращения к поставленной теме определена неослабевающим вниманием современной науки к вопросам формирования и развития человеческой личности в произведениях Л.Н. Толстого. До настоящего времени человеку comme il faut, его инвариантам и специфике воплощения в художественном мире писателя практически не уделялось внимания, хотя черты этого личностного типа можно обнаружить в целом ряде его персонажей – с этим связана новизна данного исследования. При сопоставлении свойств человека comme il faut в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и повести Л.Н. Толстого «Юность» отмечается принципиальная разница в толковании этого устойчивого французского выражения в художественном мире двух произведений. В ходе анализа образа Бориса Друбецкого, занимающего значительное место в событиях и персонажной системе романа «Война и мир», устанавливается, что он соответствует всем критериям человека comme il faut, обозначенным в повести. Через призму его судьбы Толстой показывает, как нормы этикета из чисто внешних правил поведения начинают проникать и в другие области жизни, а принцип «как надо» экстраполируется в этическую сферу, выполняя функцию моральной установки. Согласно выводам, черты человека comme il faut коррелируют с качествами толстовских персонажей, которых Ю.М. Лотман определил (в соответствии со свойственным им типом художественного пространства) как «героев своего места (своего круга), героев пространственной и этической неподвижности». В противоположность «героям пути», важнейшей особенностью которых является движение по моральной траектории и связанная с ним внутренняя эволюция, эти персонажи остаются в пределах четко очерченных «своим кругом» этических установок, никогда не выходя за их границы и не мучаясь вопросом о смысле жизни, как это свойственно любимым толстовским героям.
Лев Толстой, «Юность», comme il faut, «Война и мир», Борис Друбецкой, герой своего места
Короткий адрес: https://sciup.org/149149382
IDR: 149149382 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-125
Текст научной статьи Человек comme il faut в художественном сознании Л.Н. Толстого: развитие образа
Leo Tolstoy; “Youth”; comme il faut; “War and Peace”; Boris Drubetskoy; a Hero of His place.
Актуальность обращения к поставленной теме определена неослабевающим вниманием современной науки к вопросам формирования и развития человеческой личности в произведениях Л.Н. Толстого. За многие годы изучения творчества великого писателя наметились основные направления, важнейшее из которых всегда было связано с проблемой человека, при этом большое внимание уделялось персонажным системам, типологии и поэтике отдельных образов. Из работ недавнего времени, посвященных этой теме, можно назвать диссертации [Гевель 2015; Асеева 2017; Фомина 2017], статьи [Ливанова 2017; Иванников 2022; Кириллина 2023; Любарец 2024] и некоторые другие исследования. Однако до настоящего времени человеку comme il faut, его инвариантам и специфике воплощения в художественном мире писателя практически не уделялось внимания, хотя черты этого личностного типа можно обнаружить в целом ряде его персонажей – с этим связана новизна данного исследования.
Понятие «человек comme il faut» появляется, как известно, в одном из первых произведений Льва Толстого – повести «Юность» (1857), где ему посвящена отдельная глава, под этим же названием – «Comme il faut» [Толстой 1960–1965, I, 312–315]. Русскому читателю, даже далекому от представлений о светском этикете, это понятие было уже знакомо по роману Пушкина:
в VIII главе «Евгения Онегина» автор воспользовался им для характеристики Татьяны Лариной, с которой главный герой встретился в Петербурге после длительной разлуки: «Она казалась верный снимок / Du comme il faut... (Шишков, прости: / Не знаю, как перевести)» [Пушкин 1957–1958, V, 171–172]. Перевод этого французского выражения, действительно, всегда вызывал затруднения, поскольку точного соответствия ему в русском языке не существует – эта идиома, имея буквальный смысл «как надо, как следует», употреблялась обычно в значении «приличный, соответствующий правилам светского приличия» [Словарь иностранных слов 1989, 245]. Как отмечает О.С. Муравьева, в сознании Пушкина «“верный снимок du comme il faut” – это образец прекрасного воспитания, безукоризненных манер, безупречного вкуса» [Муравьева 1999, 166]. Чтобы точнее передать вложенный им смысл, Пушкин далее применяет прием антитезы, противопоставляя понятия сomme il faut и vulgar. Знаменательно, что эту же антитезу можно увидеть и в письме поэта к жене: «…ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московскою барышнею, все, что не сomme il faut, все, что vulgar…» [Пушкин 1957–1958, X, 454]. Для характеристики главной героини романа в финале, автор использовал и иной прием: важнейшие черты Татьяны ярче и сильнее проявляются при сравнении с другой участницей раута, признанной красавицей Ниной Воронской, которая «мраморной красою / Затмить соседку не могла, / Хоть ослепительна была» [Пушкин 1957–1958, V, 172]. Так выявляются те глубинные смыслы, которые поэт вкладывает в это французское выражение: совершенно очевидно, что главными качествами Татьяны являются утонченность и аристократизм.
Главный герой повести Толстого, юный Николенька Иртеньев, подразделяющий всех «на людей comme il faut и на comme il ne faut pas», определяет человека первой группы по таким признакам, как прекрасное владение французским языком, «длинные, отчищенные» ногти, «уменье кланяться, танцевать и разговаривать», а также «равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки» [Толстой 1960–1965, I, 313]. Очевидна принципиальная разница в толковании французского выражения в романе Пушкина и повести Толстого: в противоположность Татьяне, в которой автор подчеркивает внутренние качества, толстовский герой связывает с понятием comme il faut лишь внешние признаки. Продолжая логику образа, можно сказать, что в понимании толстовского героя человек comme il faut должен в любых обстоятельствах держаться уверенно и спокойно от чувства собственной исключительности и превосходства над другими. Ощущение себя «человеком comme il faut» дает юному Иртеньеву, обладающему огромными амбициями и страдающему от неудовлетворенного самолюбия, сознание принадлежности к особой группе людей, которые имеют право свысока относиться ко всем остальным. Как верно замечено Н.И. Городиловой, «внешняя благовоспитанность принимается Николенькой за порядочность и благородство» [Городилова 2020, 10]. Ключевым словом, которое наиболее точно характеризует устремления толстовского героя, является успех, в то время как для Татьяны Лариной это понятие абсолютно чужеродно. Таким образом, одно и то же понятие в художественном мире разных писателей приобретает противоположный смысл. Нельзя не вспомнить при этом, что теория толстовского героя развенчивается самим ходом событий. Как отметил в свое время П. Громов, с идеей comme il faut связан в повести «сквозной психологический мотив большой напряженности» [Громов 1971, 115], завершающийся в финальной главе под названием «Я проваливаюсь». Неудача на экзамене – «это провал всей “жизненной кон- цепции” Иртеньева, и это-то воспринимается героем как катастрофа» [Громов 1971, 115]. С этой ситуацией связан тот «замечательный переворот в сознании Николеньки» [Цирулев 2011], который положил начало духовным прозрениям героев Толстого более позднего периода.
В последующих произведениях Толстого специального внимания этому типу личности не уделяется, однако его проекции отчетливо различимы в отдельных персонажах. Так, черты человека comme il faut, на первый взгляд, проявляются в одном из главных героев романа «Война и мир» – в князе Андрее Болконском, при первом знакомстве с которым отмечается черта, выделяющая его из окружающих, – выражение равнодушия ко всему происходящему и презрительной скуки на его лице. В дальнейшем читатель узнает, что Болконский говорит на французском как на родном, непринужденно и естественно ведет себя в любом обществе, всегда умеет поддержать разговор, прекрасно танцует и никогда не теряет уверенности в себе, что дает ему чувство безусловного превосходства над окружающими. Таким образом, портрет, казалось бы, совпадает с изображением идеала главного героя повести «Юность». Однако, как становится понятно в ходе событий, князь Андрей обладает богатым внутренним миром, с трудом переносит общество, в котором видит лишь фальшь и лицемерие, но снисходителен и мягок с теми, кто ему по душе. Важной деталью является и поставленная им перед собой великая цель: совершить настоящий подвиг, который принес бы ему славу и надолго остался в памяти людей. В дальнейших событиях Болконскому предстоит не раз увлекаться и разочаровываться, но душа его всегда находится в развитии, и ему не свойственно отчуждение от мира. Таким образом, внешние признаки человека comme il faut не выражают сути характера этого героя.
Можно заметить, что человек comme il faut в художественном мире Толстого противопоставлен любимому толстовскому типу «естественного человека», многие черты которого в романе «Война и мир» воплощают в себе Наташа и Николай Ростовы. При первом знакомстве с молодым поколением этой семьи выделяется фигура их небогатого, хотя и принадлежащего к знатной фамилии, дальнего родственника – Бориса Друбецкого, который «с детства воспитывался и годами живал» [Толстой 1960–1965, IV, 50] в семье Ростовых. Этот персонаж не входит в число «автопсихологических», как Андрей Болконский, Пьер Безухов или Николай Ростов, он явно дистанцирован от автора, однако играет значительную роль в изображаемых событиях, а характер его разработан до мельчайших подробностей, что заставляет предполагать важность его образа в системе романа. Одна из первых ситуаций, в которых раскрывается характер Бориса, – его объяснение с Наташей в цветочной комнате. С самого начала событий автор подчеркивает, что Наташе не свойственно следовать правилам – не случайно близкая знакомая семьи, подчеркивая вольнолюбивый характер девочки, называет ее «зелье девка» и «казак» [Толстой 1960–1965, IV,84]: в переводе с тюркского «казак» означает «вольный человек, удалец» [Шанский 1971, 106]. Различие между юными влюбленными хорошо заметно: в сознании Наташи любовь принадлежит только эмоциональной сфере, Борис стремится сразу же ввести их отношения в русло приличий, того, «как должно». Представляя читателю Бориса и Николая, автор показывает их вместе, обозначая не только внешние, но и внутренние различия: «Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо о кукле, которую держала в раках Наташа» [Толстой 1960–1965, IV, 56]. На протяжении событий эти различия не только сохранятся, но будут усиливаться, что особенно ярко проявится во время их первой встречи на военной службе. Сдержанная и правильная, почти книжная речь Бориса, состоящего в элитной гвардейской части, куда он был определен стараниями матери, еще ярче оттеняет нарочито гусарские выражения Ростова: «Ах вы, полотеры проклятые! Чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то, что мы грешные, армейщина» [Толстой 1960–1965, IV, 323]. В этой же сцене обнаруживается противоположность их взглядов на жизнь. Ростов выбрасывает присланное матерью рекомендательное письмо, которое дало бы ему возможность стать адъютантом высокопоставленного лица и тем самым продвинуться по карьерной лестнице. Узнав об этом, Борис замечает: «Ты все такой же мечтатель», – иронизируя над отсутствием у друга амбиций. «А ты все такой же дипломат», – отвечает ему Николай [Толстой 1960–1965, IV, 325]. В толковом словаре кроме прямого значения этого слова («должностное лицо, уполномоченное для сношений с иностранными государствами; служащий по дипломатическому ведомству»), есть и переносное: «… человек, тонко и умело ведущий дела, требующие сношений с другими» [Ушаков 2006, 182]. В дальнейших событиях определения «мечтатель» и «дипломат» очень точно отразят характер каждого из этих героев. Николай надолго сохранит детскую веру в высшую справедливость и способность смущаться и краснеть в щекотливых ситуациях – Борис будет с интересом вникать во все тонкости светской иерархии, быстро определит способы продвижения, очень умело начнет ими пользоваться и сделает блестящую карьеру.
Исследователями давно установлено, что большинство центральных героев Толстого являются в немалой степени «проекцией личности» [Гинзбург 1977, 300] самого писателя, отражающими его внутренний мир и определенный этап его духовного развития. Ученые не раз отмечали, что у любимых героев Толстого есть примечательная особенность: взрослея, они не порывают с детством. К Наташе и Николаю Ростовым это относится в полной мере, но все поведение Бориса Друбецкого указывает на то, что элементы детскости, бывшие в его натуре, быстро исчезают по мере его вхождения в светскую жизнь. В расцвете своей карьеры Друбецкой соответствует всем критериям человека comme il faut, обозначенным в повести «Юность»: автор отмечает его прекрасный французский язык, «чистый и правильный» [Толстой 1960–1965, V, 101], отсутствие эмоциональной реакции в самых разных ситуациях, а его стремление всегда выглядеть безупречно кажется прямой отсылкой к идеалу юного Николая Иртеньева. Уже в первый приезд Бориса из армии Наташа заметила то особенное внимание к собственной внешности, которое проявлялось во всем: «Мундир, шпоры, галстук, прическа Бориса, все это было самое модное и сomme il faut» [Толстой 1960–1965, IV, 212]. Эмоциональная амплитуда Бориса очень неширока, для характеристики его состояния в различных ситуациях постоянно применяются такие эпитеты, как «спокойный», «учтивый», «почтительный» и «приятный». По мере развития в нем все меньше остается тех качеств, которые сближали его с Ростовыми, и закономерным финалом становится ситуация с поиском невесты. Осознавая, что для прочного положения в обществе ему необходима выгодная женитьба, Борис останавливает свой выбор на некрасивой и недалекой наследнице огромного состояния Жюли Карагиной. Преодолев «тайное чувство отвращения к ней <…> и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви», он делает ей предложение, предвкушая, как будет распределять доходы с ее «пензенских и нижегородских имений» [Толстой 1960–1965, V, 347], и убедив себя, что «всегда можно «устроиться так, чтобы редко видеть ее» [Толстой 1962, 5, 349]. Так ставится последняя точка в развитии Бориса Друбецкого как человека comme il faut. Со всей очевидностью Толстой показывает, что нормы этикета из чисто внешних правил поведения начинают проникать и в другие области жизни, а принцип «как надо» экстраполируется в этическую сферу, выполняя функцию моральной установки. Высший нравственный закон исчезает как эталон, как внутренний стержень человека, заменяясь принципом всегда действовать «как надо, как должно, как следует» в этом обществе.
Образ человека comme il faut не получает у Толстого в дальнейшем психологической разработки, хотя, по наблюдениям О.В. Ломакиной, в таких поздних произведениях, как «Смерть Ивана Ильича» и «Воскресение», для сниженной характеристики действующих лиц нередко употребляются окказионализмы «комильфотный» и «комильфотность» [Ломакина 2011, 21–22]. В художественном мире Толстого черты человека comme il faut отчетливо коррелируют с качествами персонажей, которых Ю.М. Лотман определил (в соответствии со свойственным им типом художественного пространства) как «героев своего места (своего круга), героев пространственной и этической неподвижности» [Лотман 1997, 625] – к ним относятся князь Белецкий («Казаки»), Васенька Весловский («Анна Каренина»), Иван Ильич Головин («Смерть Ивана Ильича») и другие. В противоположность «героям пути», важнейшей особенностью которых является движение по моральной траектории и связанная с ним внутренняя эволюция, эти персонажи остаются в пределах четко очерченных «своим кругом» этических установок, никогда не выходя за их границы и не мучаясь вопросом о смысле жизни, как это свойственно любимым толстовским героям.