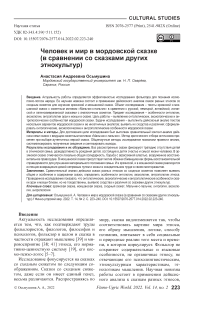Человек и мир в мордовской сказке (в сравнении со сказками других этнокультур)
Автор: Анастасия Андреевна Осьмушина
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность работы определяется эффективностью исследования фольклора для познания космопсихо-логоса народа. Ее научная новизна состоит в применении дейксисного анализа сказок разных этносов со сходным сюжетом для изучения эрзянской и мокшанской сказок. Объект исследования – тексты эрзянской и мокшанской сказок с сюжетным мотивом «Мальчик-с-пальчик» в сравнении с русской, немецкой, английской, испанской и латиноамериканской сказками с аналогичным сюжетом. Предмет исследования – особенности онтологии, аксиологии, антропологии эрзи и мокши в сказке. Цель работы – выявление онтологических, аксиологических и антропологических особенностей мордовской сказки. Задачи исследования – выполнить дейксисный анализ текстов нескольких вариантов мордовской сказки и ее иноэтничных аналогов; выявить их сходства и различия; сформулировать онтологические, аксиологические и антропологические особенности мордовской сказки. Материалы и методы. Для достижения цели исследования был выполнен сравнительный контент-анализ дейксиса семи сказок с ведущим сюжетным мотивом «Мальчик-с-пальчик». Метод критического отбора источников применен при выборе аутентичных версий сказок. Общенаучные методы исследования позволили провести анализ, систематизировать полученные сведения и синтезировать выводы. Результаты исследования и их обсуждение. Все рассмотренные сказки фиксируют трагедию отсутствия детей в этнической семье, дезидеративность рождения детей, состоящие в детях счастье и смысл жизни человека. В эрзянской сказке отмечаются локально-общая солидарность, борьба с агрессивной властью, вооруженное восстановительное правосудие. В мокшанской сказке присутствует мотив обмана обманщика как формы восстановительной справедливости для улучшения материального положения семьи. И в эрзянской, и в мошанской сказке реализуется интенция возвращения домой непрямым путем и жизни в созидательном труде в своем месторазвитии. Заключение. Сравнительный анализ дейксиса сказок разных этносов со сходным сюжетом позволяет выявить общее и особенное в содержании сказок, определить особенности онтологии, аксиологии, антропологии этноса. Проведенное исследование показало, что онтологические, аксиологические и антропологические особенности сказки эрзи и мокши близки, но не тождественны, выявило сходства и различия со сказками других этнокультур.
Эрзянская сказка, мокшанская сказка, сходный сюжет, Мальчик-с-пальчик, онтология, аксиология, антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/147237045
IDR: 147237045 | УДК: 82-343.4:39(=511.152) | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.02.223-240
Текст научной статьи Человек и мир в мордовской сказке (в сравнении со сказками других этнокультур)
Актуальность исследования определяется тем, что, как подтверждают труды фольклористов, филологов, философов и психологов, фольклор в целом и сказка в частности отражают мышление [39] и мировосприятие [38; 41] этноса, его нормативно-ценностную систему [19], его космо-психо-логос [5–7].
Исследование фокусируется на сказках со сходным сюжетом по следующим соображениям. Сказки со сходным сюжетом, даже если он имеет единый генез, весьма различаются. Распространяясь по миру, сказка видоизменяется так, чтобы соответствовать картине мира этноса, его образу мышления, логике, способу познания, впитывает в себя социальные и природные реалии того места и времени, в котором циркулирует. Фольклор не сохраняет содержательные и языковые особенности, не органичные этносу, не отвечающие его психолингвистическим, этнокультурным характеристикам, этнологикам мышления. Научная новизна работы состоит в применении дейксис-ного анализа к сказкам разных этносов,
(Гц! КУЛЬТУРОЛОГИЯ содержащих сходный сюжет, в частности к сказкам эрзи и мокши.
Сходство сюжетов не есть тождество. Именно анализ отличий помогает увидеть то особенное, что присуще конкретной этнокультуре, и именно дейксис фольклорного текста фиксирует эти отличия. Цель настоящей работы – выявление онтологических, аксиологических и антропологических особенностей мордовской сказки «Пальчик»1 (эрзянской “Пелькине” и мокшанской “Пялькхине”). Задачи исследования – выполнить дейксисный анализ текстов нескольких вариантов мордовской сказки «Пальчик» и ее иноэтничных аналогов (русского, немецкого, английского, испанского и латиноамериканского); сравнить их и установить сходства и различия в плане онтологии, аксиологии и антропологии; обобщить полученные результаты, сформулировав онтологию, аксиологию и антропологию этноса в мордовской (мокшанской и эрзянской) сказке.
Объектом исследования являются тексты перечисленных выше сказок, предметом – мир, бытие человека (т. е. онтология), сам человек, ребенок, входящий в мир, в общество людей, его модус взаимодействия с миром и социумом (т. е. антропология), общественная нормативно-ценностная система (т. е. аксиология) эрзи и мокши в сказке.
Обзор литературы
Первичный материал исследования – тексты мордовских (эрзянской и двух вариантов мокшанской), русской, двух вариантов немецкой, английской, испан- ской и латиноамериканской (чилийской) сказок2. Существует множество работ, посвященных семантике мордовского фольклора и эпоса [3; 9; 10; 19; 23–28; 30; 31], мордовской и русской сказки [2; 6; 7; 16; 18; 20; 29], зарубежного фольклора [33; 41–46], однако трудов, рассматривающих содержание сходных сказок разных этносов в сравнении, мало, к тому же они не затрагивают мордовскую сказку «Пальчик». Что касается дейксисной семантики сказок как части космо-психологического анализа, то она до сих пор практически не изучалась.
Методологическую основу исследования составили труды лингвистов и философов, благодаря которым в лингвистический и семиотический анализ текста вошли понятия социального дейксиса, относительного дейксиса, номинативного дейксиса, индикативного дейксиса и абсолютного дейксиса [1; 4; 12; 17; 22; 32; 34–37; 40; 46]. Относительный, социальный, номинативный, индикативный и абсолютный дейксис сказки используется автором не в значении лингвистического или семиотического явления, а как средство формализации социальности3. Принцип приоритета различий над сходствами, выступающий одной из методологических основ работы, убедительно раскрыт в рамках философии Ж. Делезом [11], М. Монтенем [16], Н. Я. Данилевским [8], В. О. Ключевским [13], М. М. Ковалевским [14], Ю. Ф. Самариным [21], в рамках гештальт-психологии – К. Дункером4, в применении к сказке – А. А. Гагаевым [7].
Материалы и методы
Исследование посвящено выявлению этнических онтологических, аксиологических и антропологических особенностей содержания фольклорной сказки. Для достижения цели был проведен сравнительный контент-анализ дейксиса семи сказок. В качестве материала для исследования выбрана фольклорная (этническая) сказка мордовских этносов мокша и эрзя, где ведущим сюжетным мотивом является «Мальчик-с-пальчик» (№ 700 согласно индексу сказочных мотивов Аарне – Томпсона – Утера [44]), и сходные с ней русская, немецкая, английская, испанская и чилийская сказки. Выбор данной сказки мотивирован тем, что в ней ярко отображаются особенности восприятия мира, бытия, ребенка, человека, знакомящегося с этим миром, и его модус взаимодействия с миром, с обществом, нормы и ценности общества. Метод критического отбора источников ограничил выбор автора именно аутентичными версиями сказок, собранными фольклористами, исключая так называемый фальшлор5 [35]. Общенаучные методы исследования позволили провести анализ, систематизировать полученные сведения и синтезировать выводы.
Результаты исследования и их обсуждение
Все рассмотренные нами варианты сказки с сюжетной линией «Мальчик-с-пальчик» имеют общее содержание: бездетная пара бедняков чудесным образом обретает сына, рост которого необыкновенно мал. Тем не менее этот ребенок трудится, помогая родителям, и стремится занять свое место в мире.
Какое место в социальной структуре общества занимает сын небогатых и незнатных родителей? Как встречает ребенка мир, какого рода испытания ожидают его? Каким образом преодолевает он необходимость? Каждый этнос предлагает свои варианты развития событий.
Эрзянская сказка
“Пелькине” («Пальчик»)
У старика и старухи (крестьян) не было детей. Однажды старуха случайно отрубила себе палец, положила его в печь и вслух высказала пожелание иметь сына-помощника. Чудесным образом палец превратился в мальчика, который тут же вызвался отнести блины отцу в поле. Отец предостерег сына от опасности встречи с волком, но волк все-таки проглотил его. Мальчик, криком предупреждая пастухов, не давал волку охотиться и вынудил того вернуть ребенка домой, где отец и убил зверя.
Относительный дейксис сказки отражает демографическую ситуацию в крестьянской эрзянской семье: отсутствие детей или один ребенок, надежда на ребенка как на помощника в работе; недобровольное путешествие и возвращение непрямым путем. Действующие субъекты: крестьяне, муж и жена, старые, не имеющие помощников; мальчик, уходящий из дома по работе, возвращающийся домой, но вынужденный проделать непрямой долгий путь под влиянием необходимости, злой силы, с которой он борется и которую побеждает хитростью, желая вернуться в свое месторазвитие; волк, символизирующий агрессию и опасность.
Социальный дейксис фиксирует реалии эрзянского крестьянского быта XVI– XX вв. Мальчик-с-пальчик в чреве волка перемещается по своей стране и общается с представителями своей социальной группы. Социальный дейксис выявляет отношения равенства. Пейоративную оценку получает агрессия волка (причем это не агрессия Лотреамона, которую обычно демонстрирует медведь, у волка она вызвана голодом, т. е. представляет собой форму реализации необходимости). Глупость волка, его неумение избавиться от мальчика без опасности для себя получают отрицательную адмиративную (комическую) оценку. Мелиоративную оценку заслуживают трудолюбие и сме- лость мальчика, положительную адми-ративную оценку – его добрая хитрость. Дезидеративную оценку получают жизнь в семье и рождение детей в семье, труд на благо семьи. Волк пытается убить мальчика, отец с помощью сына убивает волка, мальчик не дает волку перерезать овец – так реализуются совместимость, выводимость и следование живых видов и людей в жизни и их несовместимость в смерти. Дезидеративной оценки удостаивается восстановительное правосудие: убийство волка, причем совершаемое отцом мальчика – стариком, воплощением мудрости и традиций этноса.
Номинативный дейксис (номинативы в интуитивистских выборках): атя ‘старик’, баба ‘старуха’ – слабость; Пелькине – уменьшительно-ласкательный вариант слова пелька ‘палец’, т. е. Мальчик-с-пальчик, – малый рост и любовь называющих; пастух – охраняющий жизнь вверенных ему животных как частной собственности; волк – враг человека, традиционно действующий по необходимости и не отличающийся умом, претендующий на частную собственность и жизнь человека, – одна из сказочных ипостасей государственной власти.
Индикативный дейксис фиксирует социально-демографический контекст, снисходительно-шутливое отношение и любовь к детям, уважение к старшим в семье: а эйкакшост, а какшост ‘ни малыша, ни голыша’, церамок ‘сынок’, обращения авай ‘мама’, церай ‘сын’, тетяй ‘папа’.
Абсолютный дейксис: обсуждается интенция ухода ребенка из дома ради труда, ради помощи своей семье и возвращения непрямым путем вследствие борьбы с необходимостью; абсолютная положительная оценка семьи; абсолютная отрицательная оценка агрессии и нападения на эрзянский народ: Илямакс эвть вергис, – эстеть берянь ули! «Не трогай меня, волк, – тебе же хуже будет!»6, реализуемая в последовательных действиях, упорстве и хитрости, благодаря которым эрзянский мальчик преодолевает необходимость и возвращается в семью.
Мокшанская сказка
“Пяльхкяня” («Пальчик»)
Рассмотрим два варианта сказки, различия между которыми не препятствуют их параллельному анализу.
У старика и старухи не было детей. Старик случайно отрезал себе палец, старуха положила его в печь, и он превратился в мальчика. Ребенок сразу пожелал помогать родителям и отправился на поле, где его увидел барин (в первом варианте), английский лорд (во втором) и захотел купить. Мальчик посоветовал отцу соглашаться, по пути продырявил карман покупателя (в первом варианте еще и сундук), выкинул все деньги, нагадил в карман и сбежал (в первом варианте уточняется: собрав выкинутые деньги и принеся их отцу). В первом варианте мальчика женили на самой красивой девушке, а барин опозорился перед барыней, во втором – про свадьбу не упоминается, английский лорд опозорился перед другими лордами.
Относительный дейксис формализует демографическую ситуацию в мокшанской семье: отсутствие детей или один ребенок; средний для крестьянской семьи достаток; желание женщины иметь ребенка как помощника в хозяйстве («Если бы у меня был сынок, я бы послала его отнести блины, а теперь некого послать»7); желание ребенка заработать для своей семьи и уход его в мир с намерением вернуться в свое месторазвитие. Действующие субъекты: бездетные старик и старуха, крестьяне среднего достатка; Мальчик-с-пальчик – ребенок, стремящийся восстановить справедливость; барин / английский лорд – другое, нежели в эрзянской сказке, воплощение государственной власти, ее частного варианта (привилегированного сословия, а в случае с английским лордом – к тому же недружественного государства). Иллокутивный эффект – торжество маленького, бедного, не имеющего власти и слабого, но хитрого над большим, сильным, наделенным властью и богатым (во втором варианте еще и чужим). Перлокутивный эффект – возвращение в свое месторождение, к семье родителей (в первом варианте – улучшение материального положения родительской семьи и создание собственной), восстановление справедливости (обман и манипулирование богатыми с целью передачи их денег бедным – это не воровство, а восстановительное правосудие [6, кн. 3, 62]).
Социальный дейксис отражает отношения крестьянина и власти, отношения конкуренции и конфликта, замаскированные под кооперацию. В мокшанской сказке крестьянин с властью не борется, не сражается вооруженным образом, не убивает, но хитрит, обманывает и обирает, восстанавливая справедливость и выявляя ничтожное в кажущемся великом. Глупость барина/лорда, обманутые ожидания его жены-барыни / друзей-лордов получают отрицательную адмиративную (комическую) оценку. Хитрость мальчика, любовь его родителей к нему, нежелание отца продавать его заслуживают мелиоративную оценку. Отношение власти к человеку как к товару, как к объекту товарно-денежных отношений и средству развлечения получает пейоративную оценку.
Номинативный дейксис (номинативы в интуитивистских выборках): атянь ба-бань а эйдест, а какшист8 / атянь-бабань ашель шачисна ашель касысна9 ‘старик и старуха без малыша, без голыша’ – сожаление об одинокой старости; Пяльхкяня ‘Мальчик-с-пальчик’ – ребенок, надежда семьи и этноса на лучшую жизнь; лордть Англияв ‘английский лорд’ – воплощение власти и богатства, оппозиция «мы – они».
Индикативный дейксис фиксирует социально-демографический контекст: любовь и солидарность в семье, выраженные обращениями бабаньке ‘старуха’, тядяй ‘мама’, аляй ‘папа’, монь церазе ‘мой сын’; социально-политический контекст: несовместимость мокшанского крестьянина и барина, русского или английского, основанная на разности оценок (человек как субъект или объект деятельности и сделки), разности социально-экономического положения, вызванная алчностью привилегированного сословия (поэтому действия мальчика оцениваются положительно).
Абсолютный дейксис – абсолютная положительная оценка, или идеальный конечный результат, как жизнь в семье, рождение детей в семье, труд на благо семьи в своем месторождении, отношения равенства, солидарности и уважения, без экономической несправедливости со стороны власти в целом и ее представителей в частности.
Иноэтничные варианты сказки
Русская сказка «Мальчик-с-пальчик» содержит мотивы мокшанской и эрзянской – продажа барину и побег от него, путешествие в брюхе волка – и иные, не входящие в мордовские сказки. Мальчик нарождается из мизинца старухи и сразу же, как и в мордовских сказках, принимается помогать родителям. Он сам предлагает отцу продать его, если найдутся желающие купить, обещая вернуться домой. Сбежав от барина, Мальчик-с-пальчик встречает разбойников и добровольно помогает им обокрасть попа. Как и в эрзянской сказке, Мальчик-с-пальчик вынуждает волка доставить его домой, родители убивают зверя, а из шкуры делают сыну тулуп.
Относительный дейксис: ситуация в целом – отсутствие детей или один ребенок в крестьянской семье; стремление ребенка помочь родителям в работе и материально, добиться восстановительного правосудия. Мальчик-с-пальчик вынужден проделать свой путь, чтобы вернуться домой, как и персонаж мокшанской сказки, обманув барина, ограбив попа и хитростью убив волка. При этом в отличие от мокшанского русский Мальчик-с-пальчик не берет денег ни барина, ни попа. Общее мнение – положительная оценка смелости и находчивости мальчика. Таков перлоку-тивный эффект сказки. Иллокутивный эффект – необходимость для простого человека, крестьянина, проявлять хитрость во враждебном мире.
Социальный дейксис формализует отношения конкуренции и конфликта, вла- сти и подчинения, борьбы с властью и протеста против иерархии – не прямого протеста и не открытой борьбы, но своеобразной восстановительной справедливости, компенсации экономической несправедливости (получающей мелиоративную оценку).
Распространяясь по миру, сказка видоизменяется так, чтобы соответствовать картине мира этноса, его образу мышления, логике, способу познания, впитывает в себя социальные и природные реалии того места и времени, в котором циркулирует. Фольклор не сохраняет содержательные и языковые особенности, не органичные этносу, не отвечающие его психолингвистическим, этнокультурным характеристикам, этнологикам мышления.
Номинативный дейксис выявляет социальные роли (старик, старуха, барин, поп, воры, волк) в отношениях несправедливости. Интуитивистская выборка: противостояние крестьянина и богатого дворянства, крестьянина и богатого духовенства, братство крестьянина и разбойника, битва и победа крестьянина над врагом-волком (агрессивной и ненасытной властью, пожирающей маленького человека).
Индикативный дейксис фиксирует отношения несовместимости разных социальных групп, отсутствие солидарности в обществе, отсутствие правового урегулирования конфликта и возможности улаживать спорные ситуации законным, честным путем.
Абсолютный дейксис: борьба русского народа с угнетателями – борьба хитростью и оружием русской дубинки: «Старик схватил дубинку, старуха другую и давай бить волка; тут его и порешили, сняли кожу да сынку тулуп сделали»10.
Два варианта немецкой сказки имеют столь значительные различия, что рассматривать их нужно по отдельности.
Вариант 1: “Daumerdick” («Мальчик-с-пальчик»). Крестьянину с женой было грустно одним в тихом доме, и они пожелали ребенка, чтобы любить его (не ожидая помощи, как в мордовских сказках), и родился мальчик ростом с пальчик. Несмотря на свои малые размеры, он стал помогать родителям. Однажды его захотели купить, чтобы показывать за деньги. Мальчик-с-пальчик велел отцу согласиться, а по пути сбежал (обманывая, как и в русской и в мордовских сказках, людей, считающих человека объектом купли-продажи). Он предложил свою помощь ворам, которые обсуждали, как обокрасть дом пастора, но намеренно привлек внимание прислуги (не обкрадывая священника, как в русской сказке, а, напротив, защищая частную собственность духовенства). Затем его проглотила корова, корову убили, но он попал в брюхо волка. Мальчик заманил волка в кладовую своих родителей, откуда, объевшись, тот не смог выйти и был убит отцом. Мальчик-с-пальчик решил, что достаточно повидал мир, и остался с родителями.
Относительный дейксис: ситуация в целом – жизнь как постоянный выбор между добром и злом, поиск своего места в мире. Действующие субъекты: Мальчик-с-пальчик как воплощение концепта взросления ребенка; его родители-крестьяне (трагедия бездетного брака, необходимость заботиться о ком-либо); алчные дельцы, случайно встреченные мальчиком, выбирающие аморальное обогащение, лишенные человечности, – Мальчик-с-пальчик отказывается идти этим путем; воры, встреченные мальчиком на пути, – и этот путь отвергает Мальчик-с-пальчик, более того, он предотвращает кражу. Хитрость и смекалка позволяют мальчику спастись в безнадежных обстоятельствах, они же приводят его домой, где отец выручает блудного сына из беды. Таков иллокутивный эффект сказки. Пер-локутивный эффект – правильный выбор между добром и злом.
Социальный дейксис: необходимость ребенка в семье не в качестве гарантии ухода в старости, не ради развлечения, а как глубокая внутренняя потребность заботиться о нем и дарить ему свою любовь (дезидеративная оценка). Познание мира, соблазны внешнего мира, прохождение череды ситуаций выбора – необходимое условие взросления и социализации человека (дезидеративная оценка). Моральное и аморальное, преступное и правильное, межличностные отношения, помощь ближнему как содержание социальных отношений получают пейоративные и мелиоративные оценки. Смысл жизни – рождение детей в семье и забота о детях.
Номинативный дейксис (интуитивистская выборка): ребенок как главная ценность в семье, семья как главная ценность в жизни. Номинативы: Daumerling обозначает социально-демографическое положение Мальчика-с-пальчика – ребенок; остальные субъекты называются в соответствии с семейной ролью или социальным положением, поскольку именно семья и социальные отношения играют в этой сказке ведущую роль: Bauersmann ‘крестьянин’, der Vater ‘отец’, die Muter ‘мать’; der Pfarrer ‘пастырь’; die Diebe ‘воры’. Обратим внимание на то, что покупатели, пожелавшие разбогатеть, показывая Мальчика-с-пальчика за деньги, называются просто Mannen ‘мужчины’, поскольку в данном случае социальное положение неважно, порочным может быть представитель любой социальной группы. Номинативный дейксис выявляет демографическую справедливость.
Индикативный дейксис данной сказки очень ярко отображает истинные и ложные намерения и отношения.
Абсолютный дейксис – отсылка к притче о блудном сыне, дорога и познание мира как средство взросления, возвращение в семью как правильный выбор. Другая абсолютная оценка – оценка родителей, продающих свое дитя, и заключение, что никакие сокровища мира не равноценны ребенку.
Вариант 2: “Des Shneiders Daumer-lings Wanderschaft” («Путешествие портняжки-с-пальчик»). В этом варианте приключений Мальчика-с-пальчика герой является сыном портного и покидает отца с его одобрения, чтобы познать мир. В процессе познания он находит работу подмастерья, но ссорится с хозяйкой, затем помогает разбойникам ограбить королевскую сокровищницу. Разбойники хотят наградить его и сделать своим сотником, но Мальчик-с-пальчик, не в силах унести больше одной монеты – крейцера, вновь отправляется в путь. Не владея никаким ремеслом, он устраивается домашним слугой и разоблачает нечестных служанок. В отместку те подстраивают, что его проглатывает корова. Чудом избежав смерти, мальчик оказывается в лесу, где попадает в лапы лису, но уговаривает зверя отпустить его в обмен на всю птицу своего отца. Так портной получает сына и крейцер, а лис – всю птицу, потому что отец любит своего сына больше кур.
Относительный дейксис: ситуация в целом – взросление, познание мира, поиск и выбор профессии, рода занятий в мире. Субъекты: Мальчик-с-пальчик, желающий исследовать большой мир; отец, одобряющий эту затею и радующийся возвращению сына, выполняющий договоренность сына с лисом; остальные персонажи, встречи, сотрудничество или конфликт с которыми позволяют Мальчику-с-пальчику познать мир и самого себя в мире. Таков иллокутивный эффект сказки. Перлокутивный эффект – испытав свои силы в большом мире, ребенок возвращается в родительскую семью к радости своей и родителей.
Социальный дейксис фиксирует хронотоп дороги, об этом говорит и слово Wan-derschaft в названии сказки и в описании цели Мальчика-с-пальчика, что означает путешествие с целью исследования, познания мира. Данный вариант сказки существенно отличается от варианта “Daumer-dick” тем, что субъект стремится не просто узнать этот мир и найти свой путь в нем, а изменить его к лучшему, выступая против несправедливости и порока, как и в русской сказке. Мальчик-с-пальчик познает мир, но не желает становиться его частью, так как мир несправедлив. Отмечаются несоблюдение социального статуса, стремление к нарушению иерархии, поскольку существующая система статусов унижает че- ловеческое достоинство (и получает пейоративную оценку), и Мальчик-с-пальчик противостоит ей (положительная адмира-тивная оценка). Сказка формализует отношения власти и подчинения/неподчинения, солидарности / отсутствия солидарности, справедливости/несправедливости. Дези-деративную оценку заслуживают спасение от смерти и возвращение мальчика к отцу, мелиоративную – любовь отца к ребенку.
Номинативный дейксис составляет нарушение справедливости и солидарности. Интуитивистская выборка: жизнь как путь, мир как дорога, взросление как путешествие, отсутствие ремесла, познание мира как порочного, противостояние пороку, противостояние иерархии. Номинативы отражают социальный статус, положение субъектов по отношению к мальчику, их семейное положение обозначается в отношении к нему же: das Schneiderlein ‘портняжка’; seinem Vater, dein Vater, deinem Vater ‘своего отца, твоему отцу, твоего отца’; Meister ‘мастер’, Meisterin ‘жена мастера’; Räuber ‘разбойник’; die Schildwache, die Wachen ‘стража’; der König ‘король’; ihrem Hauptmann ‘своим сотником’; Hausknecht ‘домашний слуга’, die Mägde ‘служанки’; Fuchs ‘лис’.
Индикативный дейксис фискирует истину, ложь и порочность в осуществлении социальных ролей. Так, обращения демонстрируют социальную иерархию и отрицание иерархии в борьбе за справедливость и равенство: Frau Meisterin ‘госпожа Мастерица’, Hüpferling ‘Попрыгун’, Herr Kartoffelkönig ‘господин Картофельный король’, ein tüchtiger Kerl ‘смышленый парень’, Herr Fuchs ‘господин Лис’. Индикативный дейксис выявляет смелость и находчивость Мальчика-с-пальчика: «Он имел в себе смелость»11, «И дурачил их так долго, что они устали и ушли»12, «Он видел то, что они тайно делали дома, не замечая его, и рассказывал им»13; заботу отца о нем: «Взял иглу и сделал на ней узелок из сургуча: “Пусть у тебя будет меч в пути”»; порядочность отца и необходимость держать слово: «Но зачем нужно было позволить Лису убить бедных кур? – Потому… что его отец любит своего сына больше кур!».14
Абсолютный дейксис формализует идеальный конечный результат как равенство, солидарность, уважение, справедливость, приобретение опыта, профессии, познание мира и жизнь в семье.
Название испанской сказки “Periquillo” связано не с пальцем руки, а с попугаем: мальчика называют Periquillo , что означает ‘Попугайчик’. Его маленький рост обусловлен наследственностью. Вопреки советам не заводить детей родители-крестьяне хотели сына, и его рост был им неважен. Попугайчика его размеры также не смущают, он помогает отцу в работе, как и мордовский и русский мальчики, а однажды оказывается в брюхе вола, а затем волка (как и в немецкой сказке, но в отличие от мордовской волк проглатывает его ненамеренно). Попугайчик привлекает внимание пастухов, и волка убивают дубинками. На этом странствия мальчика не заканчиваются, он попадает в барабан из волчьей кожи, видит, куда разбойники прячут клад, и приносит своим родителям богатство.
Относительный дейксис: ситуация в целом раскрывает, как ребенок взрослеет, начинает помогать родителям в повседневных делах и в итоге благодаря своей смекалке и удаче качественно улучшает их жизнь, приносит в семью достаток, причем деньги тратятся на улучшение условий жизни и труда в рамках той же профессии («И отец купил еще одного вола, такого как Колорао, и у них все еще оставались деньги, чтобы купить еще много вещей, в которых они нуждались»15). Субъекты: Попугайчик как воплощение ребенка; его родители как символы крестьянства в целом; волк, разбойники/ грабители/воры – непредсказуемая опасность; пастухи с дубинками – сила этноса, стремление обеспечить безопасность и порядок. Иллокутивный эффект составляет необходимость рождения и воспитания детей в семье. Перлокутивный эффект – преодоление тягот жизни при помощи трудолюбия, смекалки и случайности/удачи.
Социальный дейксис отмечает тяжелые условия жизни испанского крестьянства, необходимость продолжения рода (в том числе для сохранения земельного надела за семьей), тяжелый труд, бедность. Де-зидеративную оценку получает жизнь в семье в достатке, мелиоративную – добросовестный труд и веселый отдых на праздниках общины, пейоративную – воровство и грабеж.
Номинативный дейксис: номинативы фиксируют содержание социальных ролей и этнические оценки: labradores ‘земледельцы’; cañamones ‘карлики’; el niño ‘ребенок, малыш’, Periquillo ‘Попугайчик’; sus padres ‘его родители’; el pastor ‘пастух’; los ladrones ‘разбойники, воры, грабители’. Интуитивистская выборка: необходимость тяжелого труда, бедность простого народа, невозможность приобрести все необходимое и жить в достатке благодаря лишь честному труду.
Индикативный дейксис формализует отношение к крестьянам как к незначительным людям, необходимость детей в семье, терпение, полагание на волю Божью и счастливую случайность.
Абсолютный дейксис отражает идеальный конечный результат – рождение и воспитание детей в семье, преодоление бедности, труд на своей земле.
В английской сказке “The Story of Tom Thumb” («История Тома-с-пальчик») мальчик Том, ростом с большой палец, появляется в семье бедного, но гостеприимного пахаря по просьбе его жены и по волшебству волшебника Мерлина. Том попадает в разные переделки и добирается до двора короля Артура. Король позволяет ему отнести своим бедным родителям столько золота, сколько сможет, но он смог укатить лишь одну серебряную монетку. Тем не менее отец и мать гордятся сыном, поскольку он нашел службу у самого короля: Том развлекает его и королеву, но и родителей не забывает – раз в месяц навещает их и рассказывает о жизни при дворе.
Относительный дейксис сказки отражает демографическую ситуацию в крестьянской эрзянской семье: отсутствие детей или один ребенок, надежда на ребенка как на помощника в работе; недобровольное путешествие и возвращение непрямым путем. Действующие субъекты: крестьяне, муж и жена, старые, не имеющие помощников; мальчик, уходящий из дома по работе, возвращающийся домой, но вынужденный проделать непрямой долгий путь под влиянием необходимости, злой силы, с которой он борется и которую побеждает хитростью, желая вернуться в свое месторазвитие; волк, символизирующий агрессию и опасность.
прошайка’; ploughman ‘пахарь’; ploughman’s wife ‘жена пахаря’; stranger ‘чужак’; Fairy Queen ‘королева фей’.
Индикативный дейксис формализует социальные контексты – экономический (бедность пахаря и богатство короля), политические (социальная иерархия, гордость за сына при дворе), демографические (необходимость рождения ребенка в семье; похвально, когда дети не забывают родителей).
Абсолютный дейксис – даже сын бедных родителей может добиться высокого положения в обществе при должной удаче, смекалке и терпении.
Чилийская сказка “El Miñique” («Мизинчик») повествует о семье очень бедных и очень несчастных стариков, водовоза и прачки. Как бы тяжело они ни трудились, денег едва хватает, чтобы не умереть с голоду. Они мечтают о ребенке, с которым могли бы разговаривать по вечерам и который заботился бы о них в случае болезни, и голос с неба сообщает, что их желание будет исполнено. На следующий день появляется малыш размером с мизинец, обладающий поразительной силой и громким голосом. Когда старики уже не в силах работать, мальчик приносит им продукты. Король желает увидеть его, а затем оставить при себе, но Мальчик-с-пальчик сообщает, что он единственный кормилец своих бедных старых родителей и без него они умрут. Растроганный король выделяет старикам комнату во дворце и обеспечивает всем необходимым. Мальчик-с-пальчик служит королю, применяя свои таланты, и счастливо живет, любимый всеми.
Относительный дейксис: cитуация в целом – жизнь как череда выборов, поиск своего места, поиск смысла жизни. Субъекты, действующие в сказке, – старые бедняки, не имеющие детей (как и в мордовской сказке); Мальчик-с-пальчик (честный малый); великодушный король. Иллокутивный эффект – разумное, соответствующее реалиям и потребностям постижение мира. Перлокутивный эффект – торжество добродетели, чест- ности, этночеловеколюбия, сострадания и заботы о ближнем.
Социальный дейксис: трагедия этнической семьи и этноса в целом, заключающаяся в отсутствии детей; социальная иерархия и субординация – подчинение воле родителей и короля; демографическая справедливость как забота о родителях, которая важнее карьерного роста, социального успеха; межэтническая/миграцион-ная справедливость как нежелание войн; экономическая несправедливость («как бы они ни трудились, заработанные деньги позволяли им только не умереть с голоду»16), честный труд по способностям как основа общественного признания и любви окружающих, получающий дезидеративную оценку. Смысл жизни – в честном труде на благо общества и вместе с этим в заботе о своей семье. Смысл жизни этноса – в рождении и воспитании детей. В отличие от мокшанской сказки чилийская фиксирует совместимость, выводимость и следование социальных групп на основании добродетели, демографической справедливости и жизни.
Номинативный дейксис, интуитивистская выборка: ребенок как главная радость и утешение и надежда на заботу в болезни и старости; ребенка необходимо оберегать, но затем выпустить в мир и позволить заботиться о родителях и занять свое место в мире в соответствии со способностями. Номинативы viejecitos ‘старички’, el marido aguador ‘муж водовоз’, la mujer lavandera ‘жена прачка’ демонстрируют профессию, социальное положение и демографическую группу субъектов; una guagua ‘ляля, малыш’, el niño ‘малыш, маленький ребенок’, un hijo ‘сын’ показывают этапы взросления ребенка. Второстепенные персонажи, играющие роль социальных контактов, называются по профессии: el Rey ‘король’; el cebollero ‘торговец луком’; el despach-ero ‘бакалейщик’; el carnicero ‘мясник’; el panadero ‘булочник’. Номинативный дейксис выявляет справедливость занятия своего места в жизни и демографическую справедливость.
Индикативный дейксис: el Miñique ‘малыш, маленький, мизинчик’ олицетворяет ребенка, дезидеративную модель его отношений с ближайшим окружением и миром, дезидеративную модель взросления и вхождения в общественную иерархию, изменение положения в семейной иерархии, оценки устремления: совместимости, терпения, предоставления. Обращения señor ‘господин’, mamita ‘мамочка’, hi-jito ‘сыночек’ демонстрируют отношения взаимного уважения и понимания общественной иерархии.
Абсолютный дейксис – это абсолютные оценки добродетели/порока, семьи, труда, занятия своего / не своего места в мире. Абсолютный дейксис сказки соотносится с рядом библейских мотивов: 1) чудесное появление желанного ребенка в семье пожилых праведников (Лк. 1:5–25); 2) ребенок как дар Божий («И взглянул и увидел жен и детей и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему» (Быт. 33:5); 3) притча о талантах (Мт. 25:14–30, Лк. 19:1–28); 4) наставление о почитании родителей: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф. 6:1–3); «Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится» (Прит. 23:22).
Все сказки, рассмотренные в данном исследовании, отражают трагичную ситуацию отсутствия детей в этнической семье бедняков – крестьян или рабочих; фиксируют дезидеративность рождения детей в семье – в надежде на помощь и поддержку (в мордовских и латиноамериканской) либо ради реализации желания любить и заботиться (в немецкой и английской). В мордовских, немецкой, испанской и латиноамериканской сказках ребенок с радостью трудится, помогая родителям, и во всех без исключения сказках совершает путешествие по стране, добровольное (в немецкой и латиноамериканской) или недобровольное (в мордовских, русской, английской, испанской), проявляя проактивность или реак-
Социальный дейксис отражает отношения крестьянина и власти, отношения конкуренции и конфликта, замаскированные под кооперацию. В мокшанской сказке крестьянин с властью не борется, не сражается вооруженным образом, не убивает, но хитрит, обманывает и обирает, восстанавливая справедливость и выявляя ничтожное в кажущемся великом.
тивность, возвращаясь непрямым путем в свое месторазвитие (в мордовских, русской, немецкой, испанской) или не возвращаясь (в английской и латиноамериканской), обретая свое место и возлагая на себя обязанности заботиться о стариках-родителях (в большинстве сказок) или навещая их (в английской).
В эрзянской сказке реализуются отношения солидарности индивидов внутри этнической и социальной группы и отношения конфликта с другим видом (номинально) и властью (функционально), проявляющиеся в вооруженной борьбе и победе, вооруженном восстановительном правосудии. Мотив социальной мобильности отсутствует; смысл жизни – жизнь в семье и труд в семье в своем местораз-витии. Эрзя проявляют в сказке большую пассионарность, чем мокша.
В мокшанской сказке наблюдается мотив оправданного и одобряемого обмана обманщика, воровства у вора как формы восстановительной справедливости. Социальная мобильность так же неважна, однако ценится улучшение материального положения семьи. Смысл жизни – создание семьи, рождение детей в семье и забота о родителях в жизни в своем ме-сторазвитии.
В русской сказке реализуется мотив экономической несправедливости и восстановительной справедливости в отношении русского крестьянства, восстановительного правосудия, осуществляемого вооруженным путем. Виновными в несправедливости назначаются духовенство и власть. Взрослеющий ребенок воплощает надежду угнетенного простого человека на лучшую жизнь и справедливость, которую невозможно получить мирным, законным, правовым путем.
В немецкой сказке “Daumerdick” жизненный путь становления и взросления – путь преодоления соблазнов, выбора между добром и злом как познания мира. В сказке “Des Shneiders Daumerlings Wan-derschaft” реализуется мотив именно познания, исследования мира, а не просто познания добра и зла, не только выбора морального или аморального поведения, но и контроля моральности личности, борьбы со злом, несправедливостью и пороком в мире. Смысл жизни, который обретает взрослеющий ребенок в немецких сказках, – жизнь и труд в семье.
В испанской сказке также отражено экономически тяжелое положение крестьянства, хотя и не выявляются / не обвиняются виновные. Ребенок воплощает надежду семьи на улучшение экономического положения хотя бы в пределах приобретения необходимого для жизни и труда.
В английской сказке ребенок приносит в семью радость, позволяя потратить избыточную жизненную энергию на любовь и заботу о нем. Ребенок не решает экономических проблем бедной семьи, но может сам занять более высокое положение в обществе благодаря смекалке и случайной удаче. Заслуживает внимания мотив, согласно которому жизнь дает ребенку неограниченное количество возможностей, а он берет лишь столько, сколько может унести.
В латиноамериканской сказке реализуются отношения сотрудничества, отражаются занятие своего места, обретение достойного положения в обществе, получение профессии согласно способностям, понимание своего таланта и применение его на благо общества и семьи. Семья не противостоит социальной мобильности, занятие лучшего положения в обществе возможно без нарушения норм морали и христианского милосердия и заботы о родителях, напротив, одно способствует другому. Родители заботятся о ребенке, пока он мал, с радостью принимают его таким, каков он есть, а по мере его взросления поручают ему посильную работу на благо семьи, способствующую налаживанию социальных связей и отношений.
Во всех сказках обсуждается проблема вымирания этнической семьи, семьи крестьянина, земледельца, отсутствия детей в силу тяжелых условий существования, необходимости рождения и воспитания детей в семье, доказывается, что счастье и смысл жизни – в детях.
Заключение
Во всех рассмотренных нами вариантах сказки «Мальчик-с-пальчик» формируется образ мира и человека в мире. Формализуются характеристики эрзянского человека, мокшанского человека и мира, в котором они живут и действуют.
1.1 Онтологические особенности эрзянской сказки
Мир эрзянской сказки отражает бытие в эрзянской крестьянской общине. Моделируются быт и труд крестьянской семьи и общины. Выражена полифония моделирования формы жизни: действуют субъекты разного рода. Репрезентанты социальной структуры – крестьяне, земледельцы и пастухи, старики и дети, агрессивная власть. Власть понимается как основной враг человека.
Модель справедливости в эрзянской сказке включает в себя следующие виды справедливости:
всеобщая – занятие своего места в общине сообразно своим способностям, добродетелям и труду;
общая – равенство субъектов социальной структуры;
этнокультурная – продолжение рода, развитие человека созидательного труда;
демографическая – рождение детей в семье, забота о детях и родителях;
формальная – нравственные нормы и гуманистические ценности;
восстановительная – восстановительное правосудие.
Мир сложен, неоднороден, непрямолинеен, непредсказуем, основан на семье и локальной общине, частном благе в рамках локально-общего блага.
1.2 Онтологические особенности мокшанской сказки
Мир мокшанской сказки отражает бытие мокшанской крестьянской семьи на территории России. Моделируются быт и труд крестьянской семьи. Выражена полифония моделирования формы жизни: действуют представители разных этносов.
Собственность привилегированных сословий оценивается как украденная у крестьянина.
Репрезентанты социальной структуры – крестьяне среднего достатка, старики и дети, богатое дворянство. Дворянство реализует экономическую несправедливость и интенцию к порабощению мокшанина.
Модель справедливости в мокшанской сказке включает в себя следующие виды справедливости:
всеобщая – жизнь в семье, занятие определенного положения в обществе, позволяющего наиболее эффективно использовать свои способности в созидательном труде и обеспечивать себя и семью;
общая – мера неравенства и тождества индивидов в обществе;
этнокультурная – расширенное воспроизводство этноса, развитие человека творческого труда;
демографическая – создание семьи, рождение детей, забота о детях, забота о родителях;
формальная – нравственные и законодательные нормы, гуманистические ценности;
восстановительная – восстановление справедливости без вооруженного протеста, уменьшение несправедливости в обществе.
Мир сложен, неоднороден, непрямолинеен, предсказуем, основан на семье и иерархии частной собственности, частном благе в рамках общего блага.
-
2.1 Аксиологические особенности
-
2.2 Аксиологические особенности мокшанской сказки
-
3.1 Антропологические особенности эрзянской сказки
-
3.2 Антропологические особенности мокшанской сказки
эрзянской сказки
Главная ценность – семья и дети, предусматривается забота о родителях. Защита частной собственности и жизни от пося-ганий ненасытной власти допускает вооруженную борьбу в рамках восстанови- тельного правосудия. Цель жизни – жизнь в отношениях справедливости и равенства в своем месторазвитии. Добродетели – трудолюбие, смелость, сохранение самообладания в любой ситуации, хитрость и находчивость, солидарность с семьей и общиной; пороки – алчность, агрессия, глупость. Локально-общее благо общины соотносится с частным благом частной собственности. Добро – жизнь в семье и в локальной общине в достатке, без излишеств. Зло – необходимость борьбы за выживание, ненасытная агрессивная власть.
Главная ценность – семья и дети, предусматривается забота о родителях. Приоритет отдается восстановлению справедливости хитростью, нежели вооруженному гражданскому протесту. Цель жизни – создание своей семьи в своем ме-сторазвитии. Добродетели – трудолюбие, хитрость, сообразительность, солидарность с семьей и забота о благосостоянии семьи; пороки – глупость, паразитизм, тирания. Общее благо первично, частное благо подчиняется общему благу. Добро – жизнь в семье в достатке и процветании. Зло – эксплуатация, алчная власть.
Этнический человек – крестьянин, ведущие виды деятельности – земледелие и скотоводство; идентификация и идентичность – с семьей и локальной общиной; жизнь в локальной общине на условиях солидарности. Человек проявляет реактивный тип деятельности, покидает свое месторазвитие и семью в результате неправомерных действий власти, борется с ней хитростью и вооруженным образом, стремится вернуться в свое месторазвитие и семью. Интенция к самоорганизации.
Этнический человек – крестьянин, ведущий вид деятельности – земледелие; идентичность и идентификация – с семьей и социальной группой; жизнь в семье, продолжение рода. Человек демонстрирует реактивный тип деятельности, покидает семью и свое месторазвитие в желании принести семье доход, в результате эксплуатации привилегированным сословием, стремится вернуться в свое местораз-витие и семью, принести семье богатство.
В отличие от зарубежных аналогов ни в эрзянской, ни в мокшанской сказке «Мальчик-с-пальчик» не отражена жизнь в условиях крайней бедности, отсутствия необходимого для жизни и труда. Также не наблюдается интенция познания мира, получения образования или обучения ремеслу, добровольной службы главе государства.
Таким образом, можно констатировать, что цели данного исследования были достигнуты. Дальнейшие исследования могут и должны расширить и дополнить наши познания космо-психо-логоса эрзянского и мокшанского народов путем сравнения других сказок этих этносов с иноязычными аналогами.
Поступила 17.10.2021; одобрена 17.11.2021; принята 13.01.2022.
Список литературы Человек и мир в мордовской сказке (в сравнении со сказками других этнокультур)
- Айер А. Дж. Язык, истина и логика. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2010. 240 с.
- Аникин В. П. Русская народная сказка. М.: Просвещение, 1977. 208 с.
- Антонов Ю. Г., Шеянова С. В., Шаронова Е. А. Мордовский сказочный эпос как средство этнокультурного образования и развития личности // Финно-угорский мир. 2018. Т. 10, № 1. С. 18–28. DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.01.018-028.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 447 с.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Философия татарской сказки = Татар əкиятенең фəлсəфəсе. Саранск; Пенза: [Б. и.], 2017. 190 с.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А., Кудаева Н. В. Философия мордовской сказки = Мокшень ёфксть философияц = Эрзянь ёвксонть философиясь: моногр. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2016. 160 с.
- Гагаев А. А. и др. Философия и природа, космо-психо-логическая модель русской сказки: в 3 кн.: кол. моногр. / отв. ред.: А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. Саранск: [Б. и.], 2016. Кн. 1–3.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 573 с.
- Девяткина Т. П. Мифология мордвы. Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 1998. 336 с.
- Девяткина Т. П., Панфилова С. С. Образ и функции змея в народных представлениях мордвы // Вестник Марийского государственного университета. 2021. Т. 15, № 1. С. 79–85.
- Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. 384 с.
- Желтухина М. Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ. М.: Ин-т языкознания РАН; Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. 656 с.
- Ключевский В. О. Русская история: в 3 кн. М.: Мысль, 1995. Кн. 1. 572 с.
- Ковалевский М. М. Социология. Т. 1. Социология и конкретные науки об обществе. Исторический очерк развития социологии. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1910. 300 с.
- Монтень М. Опыты: в 3 кн. М.: Наука, 1979. Кн. 1–3.
- Никифоров А. И. Сказка, ее бытование и носители // Русская народная сказка / сост. О. И. Капица. М.; Л., 1930. С. 7–55.
- Остин Дж. Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 332 с.
- Осьмушина А. А. Модель справедливости в мордовской этнической сказке // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 2. С. 212–219. DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.02.212-219.
- Осьмушина А. А., Ингл О. П. Этнопедагогическое значение комического в творчестве мордовского народа // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 3. С. 415–421.
- Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Академия, 1928. 152 с.
- Самарин Ю. Ф. Православие и народность. М.: Ин-т русской цивилизации, 2008. 716 с.
- Сепир Э. Язык. М.; Л.: Соцэкгиз, 1954. 222 с.
- Шаронов А. М., Шаронова Е. А. О некоторых особенностях эрзянского героического эпоса // Ежегодник финно-угорских исследований. 2018. Т. 12, № 3. С. 47–60.
- Шаронов А. М., Шаронова Е. А. Основные концепты эрзянской мифологии // Вестник угроведения. 2019. Т. 9, № 2. С. 328–339.
- Шаронова Е. А. Образ героя – покорителя змеев в эрзянском фольклоре и эпосе «Масторава» // Семантика народной культуры в литературе: материалы Междунар. науч.- практ. конф. М., 2018. С. 117–124.
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Бог, мир и человек в эрзянском мифе о сотворении мира // Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды: материалы Междунар. науч. конф. Саранск, 2020. С. 206–209.
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Идея образа богини Комлявы в эпосе «Масторава» // Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. ст. Йошкар-Ола, 2018. С. 239–242.
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Фольклор села Шокша Теньгушевского района Республики Мордовия: жанровый состав // Карповские чтения: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Арзамас, 2017. Вып. 7. С. 273–282.
- Шеянова И. И. Жили-были старик со старухой… Мордовские бытовые сказки. Темы, сюжеты, образы // Центр и периферия. 2019. № 1. С. 42–48.
- Шеянова И. И. «Золото» и «серебро» как элементы мифопоэтической системы мордвы // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2. С. 200–207.
- Юрченкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 156 с.
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против»: сб. ст. М., 1975. С. 193–231.
- American folklore / ed. by R. M. Dorson. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1959. 328 p. URL: https://archive.org/details/americanfolklore00dors/page/n7/mode/1up (дата обращения: 16.10.2021).
- Anderson S. R., Keenan E. L. Deixis //Language typology and syntactic description. Vol. 3. Grammatical categories and the lexicon. Cambridge, 1985. P. 259–308.
- Brown G., Yule G. Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 304 p.
- Fillmore C. J. Lectures on Deixis. Berkeley: University of California, 1971. 145 p. URL: http://www-personal.umich.edu/~jlawler/FillmoreDeixisLectures.pdf (дата обращения: 10.07.2016).
- Fillmore C. J. Towards a descriptive framework for spatial deixis // Speech, place and action: Studies in deixis and related topics. New York, 1982. P. 31–59.
- Grimm J., Grimm W. Kinderund Hausmaerchen. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1815. 389 S. URL: https://archive.org/details/GrimmKinderUndHausmaerchen2-1815/page/n22/mode/1up (дата обращения: 15.10.2021).
- Karsdorp F., Fonteyn L. Cultural entrenchment of folktales is encoded in language // Palgrave Communications. 2019. No. 5. P. 1–11. DOI: 10.1057/s41599-019-0234-9.
- Levinson S. C. Deixis // The Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell Publishing, Ltd, 2006. P. 97–120.
- Nadales M. R. Retellings of tradition. Little Red Riding Hood and the voice of the wolf // Fabula. 2019. Vol. 60, no. 3–4. P. 244–262. DOI: 10.1515/fabula-2019-0016.
- Radi M. L’espace et le fantastiquedans les voyages de Sindbad le marin // Fabula. 2019. Vol. 60, no. 3–4. P. 304–317. DOI: 10.1515/fabula-2019-0019.
- Toelken B. The dynamics of folklore. Boston: Houghton Mifflin, 1979. 395 p. URL: https://archive.org/details/dynamicsoffolklo0000toel/page/225/mode/1up (дата обращения: 16.10.2021).
- Uther H. J. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia: Academia Scientiarum Fennica, 2004. (FF communications; no. 284–286).
- Watts L. S. Encyclopedia of American folklore. New York: Facts On File, 2007. 441 p. URL: https://archive.org/details/encyclopediaofam00lind/page/n8/mode/1up (дата обращения: 16.10.2021).
- Whorf B. L. Language, thought and reality. Selected Writings. Cambridge: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, 1956. 278 p.