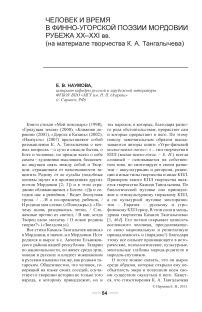Человек и время в русской поэзии Мордовии рубежа XX–XXI вв. (на материале творчества К. А. Тангалычева)
Автор: Наумова Елена Викторовн
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются художественные особенности книг стихов «Наизусть», «Дорога в Казань», «Ближняя деревня» русскоязычного поэта Мордовии К. А. Тангалычева. Автор анализирует основные мотивы произведений и выявляет их художественные особенности.
Книга стихов, стихотворение, поэзия, творчество, к. а. тангалычев, мотив, тема, лирический герой, бог, поэт, бытие
Короткий адрес: https://sciup.org/14722984
IDR: 14722984
Текст научной статьи Человек и время в русской поэзии Мордовии рубежа XX–XXI вв. (на материале творчества К. А. Тангалычева)
(г. Саранск, РФ)
Книги стихов «Мой поводырь» (1998), «Грядущая земля» (2000), «Ближняя деревня» (2001), «Дорога в Казань» (2002), «Наизусть» (2007) представляют собой размышления К. А. Тангалычева о вечных вопросах – о сути и смысле бытия, о Боге и человеке, но прежде всего о себе самом – художнике мыслящем, бесконечно ищущем связь между собой и Творцом, страдающем от невозможности защитить Родину от ее судьбы (подобные мотивы звучат и в произведениях других поэтов Мордовии [2; 3]) и в этом страдании сближающемся с Богом: «Да и сегодня нас в репейник / Ведет беспутная тропа. / …И я по-прежнему ребенок, / И родина моя слепа» («Поводырь»); «Почему вновь разорвались четки, / Сложенные прочно из светил, / В миг, когда Творец свою молитву / О покое родины творил?» («Звездопад»).
Все стихи Камиль Тангалычев написал в Мордовии, а значит, и о Мордовии. Поэт родился и вырос в с. Акчеево Ельников-ского района нашей республики. Татарин по национальности, он живет среди эрзи, мокши и русских и владеет мокшанским и русским языками так же, как родным татарским. Общеизвестно, что человек, говорящий на языке своих соседей, соучаствует в творении истории не только того народа, к которому принадлежит, но и тех народов, в которые, благодаря разного рода обстоятельствам, прорастает сам и которые прорастают в него. По этому поводу замечательным образом высказываются авторы книги «Угро-финский космо-психо-логос»: «…тип творчества в КПЛ (космо-психо-логос. – Е. Н.) всегда сложный – основывается на собственном типе, но синтезирует в своем развитии – аккультурации и реторсии, рецепции и иные типы творчества и иные КПЛ. Примером такого КПЛ творчества является творчество Камиля Тангалычева. По биологической мутовке оно принадлежит к этнокультурному тюркскому КПЛ, а по культурной мутовке месторазви-тия – Евразия – русскому и угро-финскому КПЛ сразу. В этом сила и мощь, драма творчества Камиля Тангалычева» [1, 464]. Его поэзия открывает ценность вселенского человека, преодолевающего свою национальную и религиозную принадлежность и (парадокс!) благодаря этому все сильнее проникающего в исторические, психологические, культурные, ментальные глубины народа-родителя и народов-спутников.
О поэте можно сказать, что он вырос среди образов, которые открыли ему необъятность мира и позволили всем своим существом окунуться в него. Кажется, что стихотворения К. А. Тангалычева
предчувствовали его появление как своего поэта – так невероятно сильна связь между художником и его творениями. Этим во многом объясняются исключительная «природность» его поэзии, родство его творческого вдохновения с созидательным вдохновением Космоса. Стихи Камиля Тангалычева отличаются несомненным оригинальным художественным взглядом на мир, проникнутым сиянием природы, радостью деревенского детства и ощущением неслучайности своего появления на земле, поскольку постоянно чувство, что сотворивший тебя наблюдает за тобой.
Стихи Камиля Тангалычева отличаются несомненным оригинальным художественным взглядом на мир, проникнутым сиянием природы, радостью деревенского детства и ощущением неслучайности своего появления на земле, поскольку постоянно чувство, что сотворивший тебя наблюдает за тобой.
Мотив «памяти детства» – один из важнейших мотивов в книгах стихов «Мой поводырь», «Наизусть», «Дорога в Казань», «Ближняя деревня» и др. Тема детства определенным образом структурируется, распадаясь на такие составляющие, как рождение, отчий дом, деревня, родина, природа, постижение Бога. К. А. Тангалы-чев умеет из разрозненных деталей, образов, метафор создать единую и неделимую картину мироздания, творение которого не прекращается ни на миг.
О своей земле К. А. Тангалычев в книге стихов «Наизусть» пишет светло, его поэтическая речь освещается множеством неожиданных метафор: младенец ураган рыдает , гром терпеливо утешал , туча родила , радость не дошла . Здесь он сочетает классическую манеру стихотворного письма с парадоксальным восприятием окружающего мира. Книга открывается «Ночью в пустой деревне»:
Младенец ураган рыдает
Средь ночи на земле пустой…
Осталось светопреставленье
На белом свете сиротой.
Отвергнуто с рожденья миром,
Нигде ему приюта нет.
И утром, белый свет увидев,
Оно отвергнет белый свет [6, 3 ].
После «Ночи в пустой деревне» идут «Жеребенок», «Лето», «Старьевщик», «Детство творца», организующие два конфликтно направленных мотива – мотив рождения и мотив сиротства, обретенного в миг рождения. Эти мотивы сплетаются в мощно звучащую тему всеобщего и всегдашнего одиночества.
Большинство произведений поэта написано с огромной исторической ответственностью – и перед предками, и перед современниками, и перед потомками. Не случайно во многих стихотворениях он обращается к образам деда, отца, Христа, Лермонтова, Достоевского, Пушкина; использует мотивы поэзии Блока, Высоцкого и Бергмана:
И когда спасенная Россия
Вверит революцию Христу,
С Лениным торжественный мессия
На свою вернется высоту… [6, 22 ]
Или:
От Пушкина осталась только рана, И пуля в ней по-прежнему свистит. У нас и земляничная поляна
Под солнцем поэтическим – кровит…
[6, 33 ]
Уже первые тексты утверждают взаимосвязь человека и природы. Природа у К. А. Тангалычева позволяет людям мистифицировать свое превосходство над ней. В то же время они, набравшись у природы мудрости и силы, потенциально способны быть равновеликими ей. Однако человечество пока пребывает в состоянии детства и лишь готовится реализовать свои силы в полной мере:
Т воренье мира будет скоро!
Пока, за тысячи веков,
Везу беспечно санки в гору,
Весь день леплю снеговиков…
…В права творца вступлю смиренно.
Да вечно будет только так:
Согрею руки над геенной –
И кротко встану за верстак. [6, 7 ]
Человек прозревает свою миссионерскую роль и готов безропотно и решительно выполнить ее. Поэтическая мысль облекается К. А. Тангалычевым в соответствующую художественную форму. Обратим внимание на новые рифмы, сложенные поэтом: веков – снеговиков, Рая – догорает , смиренно – геенной . Они дают нам возможность почувствовать сиюминутность мира, окружающего нас, и рассеять заблуждение в вечности нашего существования, потому что веками снеговики не стоят, Рай , к сожалению, догорает , а мы вынужденно смиренны пред геенной . Жизнь в поэзии К. А. Тангалычева амбивалентна: тем и ценна, тем и притягательна.
Сюжетообразующую функцию в книге стихов «Наизусть» выполняет и образ деревни, родного дома. Лирический герой обращается в воспоминаниях к родному дому, где прошло милое детство, а реальность сталкивает его с разрушающейся и исчезающей деревней, о которой забыли, веселясь на «ярмарке тщеславия»:
…Звонкая деревня опустела, Улица полынью заросла.
В лихолетье будто и деревня
С ярмарки вернуться не смогла.
Мне обидно, что моя Россия,
Понукая старых лошадей, С ярмарки веселой возвратилась Без деревни – родины моей… [6, 9 ]
Многие стихи К. А. Тангалычева отличают драматизм, поэтический надрыв, рожденный размышлениями о бесконечно дорогой России, вне которой он не мыслит себя, а потому благословляет все, что может сохранить и сберечь неповторимую Родину:
Но жду, когда, из рая возвратившись, Целебных ягод принесет земля.
И соберет Россия землянику, Забыв, что руки у самой болят.
И я дождусь, когда с лукошком ягод Придет Россия к моему селу.
В избе отцовской земляничным чаем
Я бытие больное исцелю [6, 3 4 ].
Поэт стремится запечатлеть мир во внешне простых, узнаваемых образах: ветер, облака, чертополох, солнце, луна, роса. Все это, казалось бы, открыто каждому, но не каждому дано воспринять и проникнуться красотой и философией взаимоотношений Космоса и Человека:
Буйный ветер, кровью истекая,
На закате покидал село.
Мельница избила ветряная
Крыльями тяжелыми его.
И всю ночь на пустыре дремучем
Ветер сиротливо причитал.
А в ответ чертополох колючий
Головой сочувственно кивал… [6, 18 ]
Природа у К. А. Тангалычева адекватна сама себе, т. е. мудра, самодостаточна, философична:
Подсолнух в поле умирает…
А солнцу вечно не узнать
О том, что вечность истекает,
Что вечность – может истекать... [6, 40 ]
Или:
Средь поля – черный жеребенок,
В грозу от табуна отстал.
Его всю ночь при свете молний
Гром терпеливо утешал.
Сегодня ночью жеребенка,
Похоже, туча родила
Среди травы, растущей в небо
Вблизи татарского села [6, 4 ].
Лирический герой Камиля Тангалычева тотально одинок, но имеет сердце, способное любить, переживать, ненавидеть. Он ведет непрерывный диалог с Богом, воплотившимся в земле, в самой бесконечной стихии. Никого роднее Бога для одинокого современного человека, видимо, и не существует. Только ему можно довериться в полной мере, только ему можно признаться в «небожеских» мыслях:
Бог, ставший самою землей,
Сияет мне в раме оконной.
Икону напишет другой –
Кто землю считает иконой… [6, 35 ]
Особое своеобразие придают поэзии К. А. Тангалычева религиозные образы и мотивы. Центральным является образ Творца мира, беспокоящегося о своем создании, стремящегося предостеречь его от последнего шага в пропасть. Самым беспокойным, но и самым милым его ребенком поэту видится Россия:
На русской поляне у леса
Впервые Христос воскресал.
И здесь, землянику вкушая,
Он Господа тело вкушал.
В тревожном молчанье деревьев
Он голос отца услыхал.
Христос, возвратившийся с неба,
Отца на земле отыскал… [6, 5 ]
Или:
Белый свет здесь кончился до срока.
И, оставив горние места,
Бог на землю навсегда вернулся,
А земля была уже пуста.
Долго, долго он земле молился,
И земля была еще жива.
Он свою молитву в землю сеял –
И всходила горькая трава… [6, 21 ]
Стихотворение «Наизусть», давшее название сборнику, иллюстрирует единство вселенской природы и исторической памяти человека, бесконечную взаимосвязь вечного и бренного:
Грохочет гром в пространстве дальнем
На свете радостно в грозу
Сегодня звуки наковальни
Читает вечность наизусть
И я сегодня звон могучий
В великом небе узнаю
На звонкой наковальне тучи
Луну мой дед кует в раю [6, 45 ].
Для лирического героя К. А. Тангалычева детство и взрослая жизнь связаны с именем Бога. И именно мыслью о Боге открывается другая книга стихов – «Дорога в Казань»:
Когда я в детстве вспоминал о боге
В бревенчатой родительской избе,
То женщину я видел у порога,
В безмолвии сошедшую с небес… [5, 5 ]
Бог у К. А. Тангалычева многолик и многомерен. В цитируемом стихотворении его образ сливается с образом «сошедшей с небес», «закутанной в сиянье» женщины, что рождает ассоциацию с греческими языческими богинями, а в стихотворении «Лето» Христос «в траве затаился, как в храме», что отсылает нас к эрзянско-мокшанской богине леса Ви- ряве. Поэт-космополит творит свой образ Бога, который может быть с благодарностью присвоен любым из его читателей.
В книге стихов «Дорога в Казань» лирический герой возвращается на родину, где им начинает управлять «память детства» его народа:
И вот ты здесь – в полях бессмертно старых, Давным-давно оставленных тобой.
Тысячелетья жили здесь татары,
Народ – твоих просторов домовой… [5, 33 ]
Традиционно для российской поэзии слияние образов Родины и матери:
Когда душа страдания пыталась
Навек испепелить, то много раз
Мне виделось: селение пылало,
Где мать моя когда-то родилась… [5, 46 ]
В данной книге детство получает не только драматическое освещение, что было и в предыдущих книгах, но и осмысляется как прекрасная пора человеческой жизни:
Ночь сияет. Стог соломы
В светлом чреве тишины…
Мне уютно в отчем доме
В час мерцания луны… [5, 55 ]
В книге стихов «Ближняя деревня» безусловны параллели с державинскими представлениями о связи Бога и Человека, но с качественно иным характером. У Г. Р. Державина Бог и Человек равновелики и равномогущественны, у К. А. Тан-галычева – равнопотеряны и неприкаянны:
Страшна в ночи угасшая деревня.
Однажды, завершив свой вечный путь, Сюда придет Всевышний, чтобы тайно
В осиновой избушке отдохнуть… …Приду туда, с ума сходя от страха, Но ближе мне деревни не найти, Где мог бы я передохнуть в избушке
В конце многострадального пути [4, 5 ].
Если в книге стихов «Наизусть» лирический герой становится творцом, то в «Ближней деревне» он отдает землю Богу:
В холодном небе сиротою
Творил Всевышний белый свет.
И богу землю сердобольно
Навеки уступил поэт… [4, 17 ]
Отречение человека от земли приводит к остановке ее сердца, которое, впрочем, может быть реанимировано совместными грамотными действиями Бога и Поэта:
Дом опустевший опечален.
Часы застыли на стене…
А за окном сосна качалась,
Пылало солнце на сосне… [4, 53 ]
Но:
Село татарское горело…
И зная, как его спасти,
Господь вручил его поэту,
Велел до рая донести… [4, 86 ]
Бог и Поэт в отчаянном, паническом стремлении спасти землю передают ее друг другу, по очереди вдыхая в нее новые силы:
Мне оставь ты родную деревню,
Пусть она обрастает травой.
Поселю я там новое время,
Не похожее ни на кого… [4, 91 ]
И это «новое время» завещается Богу:
Облетают навеки деревья,
Провожая меня у ворот.
Покидаю последним деревню,
Чтобы там поселился Господь… [4, 92 ]
В стихах поэт делает попытку не просто выразить трагический характер времени, но и объять открывшуюся человеку на рубеже веков необъятность мира:
Вся Вселенная – вечная драма!
Роль свою отыскать мне пора
В необъятном пространстве –
На сцене,
Где творится бой зла и добра! [4, 43 ]
Или:
Под солнцем ищу свое место.
Грущу на бескрайних лугах.
Меня через бездну Вселенной
Проносит трава на плечах.
Ищу свое место под солнцем.
Трава, зеленея, цветет.
Она, оставаясь на месте,
Меня тихо в вечность несет…
Найду ль свое место под солнцем?
Луга, пожелтев, отцветут.
Трава моя, и отцветая,
Продолжит единственный путь…[4, 41 ]
Книги стихов Камиля Тангалычева, помимо всего прочего, объединяет проблема взаимосвязи времени и человека, идентифицирующего себя в многонациональном пространстве, когда мордвин, татарин, русский мыслят, чувствуют, переживают и творят на одном языке – «языке сердца». Безусловно, время творит человека так, как человек творит время. Те или иные человеческие типы возникают только тогда, когда они востребованы временем. Поэтом современник прочитывается как тотально одинокий. Однако природа этого одиночества амбивалентна: человек нуждается в нем и бежит его. Поэтому в качестве достойного собеседника видится только Бог. Постоянный диалог с Богом «о времени и о себе», который ведет лирический герой К. А. Тангалычева, – отличительная примета его поэзии рубежа XX–XXI вв.
Список литературы Человек и время в русской поэзии Мордовии рубежа XX–XXI вв. (на материале творчества К. А. Тангалычева)
- Гагаев, А. А. Угро-финский космо-психо-логос/А. А. Гагаев, Н. В. Кудаева. -Саранск: [Б. и.], 2009. -614 с.
- Наумова, Е. В. Книга стихов в русской поэзии Мордовии «нулевых» годов (на материале творчества А. А. Громыхина)//Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та. -Пятигорск, 2012. -№ 1. -С. 258-260.
- Наумова, Е. В. Книга стихов в современной русской поэзии Мордовии (на материале творчества А. А. Громыхина и А. М. Шаронова)/Е. В. Наумова, Е. А. Шаронова//Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», г. Тольятти, 14-17 апреля 2011 г. Ч. 2. Гуманитарные и социальные науки. Образование. -Тольятти, 2011. -С. 366-373.
- Тангалычев, К. А. Ближняя деревня: стихи/К. А. Тангалычев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2001. -96 с.
- Тангалычев, К. А. Дорога в Казань: кн. стихотворений/К. А. Тангалычев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2002. -80 с.
- Тангалычев, К. А. Наизусть: стихотворения/К. А. Тангалычев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2007. -48 с.