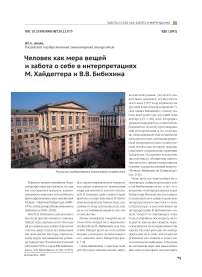Человек как мера вещей и забота о себе в интерпретациях М. Хайдеггера и В.В. Бибихина
Автор: Асоян Юлий Арамович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Междисциплинарные исследования
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Античная, в частности платоновская, идея «заботы о себе» рассматривается в ее противоречивом отношении к тезису Протагора о «человеке как мере вещей». В контексте принципа «человека-меры» идея «заботы» (ἐπιμέλεια) о «собственно своем» (αὐτός τò αὐτό) обнаруживает весьма значимое расширение: человек оказывается проблематическим местом сопряжения разных забот - забот не только о себе самом, но и других, мире в целом. Следовательно, тезис о человеке как «мере всех вещей» и идея «заботы» должны быть рассмотрены в их взаимообуславливающем единстве. Показано, что данная интерпретация «заботы о себе» фактически была предначертана хайдеггеровским осмыслением «тезиса Протагора», а после него развита В.В. Бибихиным в его толкованиях платоновского «Алкивиада I».
Античное философствование, новоевропейская мысль, человек как мера, забота о себе, собственно свое
Короткий адрес: https://sciup.org/148321486
IDR: 148321486 | УДК: 1(091) | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.12.P.75
Текст научной статьи Человек как мера вещей и забота о себе в интерпретациях М. Хайдеггера и В.В. Бибихина
ставляется, развивает и дополняет другое; а вместе они создают если и не «теорию» человеческих «забот», то, во всяком случае, любопытное и значимое пространство их понимания, на которое мы как раз и собираемся обратить внимание. В общем, мы попытаемся показать, что два эти наблюдения, на первый взгляд мало соприкасающиеся, вполне дополняют друг друга, образуя вместе некий общий рисунок совмещения заботы о себе и мире, детали которого мы собираемся обсудить. Помимо Хайдеггера и Бибихина в наше обсуждение будут вовлечены и другие авторы: Х. Арендт, Б. Кассен, Т. Васильева, М. Фуко.
Эти занятия не сделали Хайдеггера филологом-классиком, более того, тот же Гадамер признал многие из хайдеггеровских интерпретаций и толкований греческих философских текстов «насильственными» [17, с. 164], переворачивающими их общепринятый (аутентичный?) смысл. Вслед за Га-дамером о «насильственности» (не о произвольности, а именно о «насильственности») хайдеггеровских переводов и интерпретаций писали и другие исследователи – иными словами эта характеристика была услышана и принята. Но даже говоря о насильственном характере хайдеггеровских толкований, Гадамер вместе с тем подчеркивал их инициирующий и, можно сказать, провокативный характер в том смысле, что они ставят перед нами столь же неожиданные, сколь и насущные вопросы.
Одна из таких интерпретаций как раз и касается толкования Хайдеггером широко известного «тезиса Протагора». Речь идет о том, как надо понимать известное высказывание Протагора о человеке как мере вещей . Значение, которое сам Хайдеггер придавал «верному пониманию» тезиса Протагора, трудно переоценить. Симптоматично, что немецкий мыслитель обращается к этому толкованию неоднократно. В «Европейском нигилизме» интерпретация тезиса Протагора о человеке как мере становится одним из

Мартин Хайдеггер
Говоря о толковании знаменитого тезиса Протагора, два слова скажем о хайдеггеровской интерпретации античной философии в целом. Будем следовать здесь Г.-Г. Гадамеру (1900–2002), который писал о каждодневной работе Хайдеггера с древнегреческими поэтическими и философскими текстами. Согласно Га-дамеру, на протяжении трех десятков лет, если не более, Мартин Хайдеггер каждодневно – за исключением разве что нескольких военных лет в 1940-е годы – занимался чтением и толкованием античных авторов, уделяя этому по три-четыре часа своего времени в день.
ключевых пунктов статьи, а в работе «Время картины мира» интерпретации «тезиса Протагора» посвящено специальное «Добавление», являющееся своего рода «мостиком», объединяющим две эти работы в единое и целостное высказывание. Как в первом, так и во втором случае Хайдеггер пытается продемонстрировать, что привычное нам толкование тезиса Протагора о человеке как «мериле вещей» является глубоко картезианским, новоевропейским и не может соответствовать протаго-ровой «греческой логике».
Чтобы хайдеггеровская интерпретация «тезиса Протагора» не показалась каким-то частным случаем или изолированным сюжетом, с одной стороны, и стала более отчетливой – с другой, нам придется сначала вспомнить также и то, как Хайдеггер интерпретирует аристотелевское, ставшее едва ли не общим и даже расхожим местом «античного философствования» положение о человеке как существе, наделенном разумом. Аристотель определяет человека как ζῷον λόγον ἔχον .
В отличие от многих современников, мыслителей XX века, будь то М. Шелер (1874–1928) или М. Бубер (1878–1965), высказывавших едкие инвективы в адрес такого «определения» человека, Хайдеггер считал это аристотелевское определение человека не только весьма содержательным, но и до сих пор по-настоящему не понятым [21, с. 79–80]. Переводя ζῷον λόγον ἔχον как «разумное животное», пишет он, мы закрываем себе путь к древнегреческому пониманию человека. Логос здесь надо понять не как разум, а как речь. Глагол λέγειν означает не только «говорить», но и «собирать». Поэтому человек здесь не только выговаривающее мир существо, но и занятое собиранием мира.
Хайдеггеру вторит Х. Арендт: «Что сплошь да рядом принимают за знаменитое аристотелевское определение человека есть в действительности лишь артикулированное и концептуально проясненное воспроизведение обычного в полисе мнения о существе человека, насколько он жительствует в полисе и политичен; ибо по этому мнению неграждане полиса – рабы и варвары – оставались ἄνευ λόγου, без логоса, что естественно означало не то, что они не умеют говорить, а что их жизнь проходит вне логоса и слово как таковое для них лишено значения, именно поскольку греческая форма жизни отличалась тем, что была обусловлена речью, и средоточием всех гражданских дел было говорение друг с другом» [2, с. 40].
Кстати, попутно стоит отметить, что, определяя человека или как ζῷον λόγον ἔχον , или как существо общественное ( ζῷον πολιτικόν ), Аристотель придерживается не двух разных, а всегда одного и того же определения . И в том и в другом случае человек предстает не столько как разумное животное, сколько как существо говорящее … Подобный взгляд на человека тесным образом связан с со-циетальной характеристикой человека как существа общительного .
То, что у нас называется общественной природой человека, для грека прежде всего проявляется в «говорении». Х. Арендт определяла греческий полис как «организацию людей, возникшую из совместного говорения и действия ». На первый взгляд говорение и действие ( λέγειν και πράττειν ) – величины не только не совпадающие, но и противоположные. Между тем, подчеркивает Арендт, в греческом мире «действие понимается как самораскрытие и даже как самообновление действующего через посредство речи », и «как таковое оно возможно лишь в присутствии других лиц, видящих, слушающих и способных тем самым придать реальность субъективному выражению» [цит. по: 17, с. 120, 127–128].
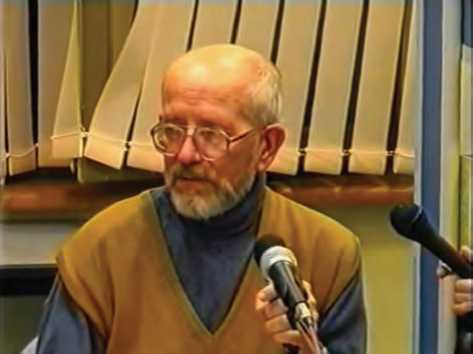
Владимир Вениаминович Бибихин
Поэтому всякое действие является взаимодействием не только подтверждающим множественность уникального опыта и личностей, но и устанавливающим общность мира , «соединяющего и разделяющего» субъектов действия. Этот общий мир – πολιτικὴ κοινονία – то, что конституируется в речи.
Но вернемся все-таки к Хайдеггеру и его толкованию «тезиса Протагора». В «Европейском нигилизме» есть главка, которая так и называется: «Тезис Протагора». Она начинается так: «Изречение Протагора гласит (в передаче Секста Эмпирика): πάντων χρη µ άτων µ έτρων ἐστίν ἄνθρωπος , τῶν µ ὲν ὄντων ὡςἔστι , τῶν δὲ µ ὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν (ср. Платон, Те-этет, 152). В обычном переводе это значит: “Человек есть мера всех вещей, сущих – что они существуют,
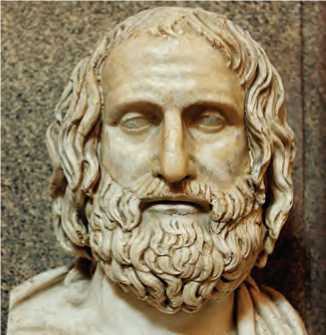
Протагор из Абдер (ок. 485–415 гг. до н.э.). Один из наиболее известных представителей старших софистов не сущих – что они не существуют”. Можно было бы подумать, что тут говорит Декарт», – довольно едко замечает Хайдеггер. В тезисе действительно с достаточной отчетливостью звучит тот «субъективизм», который любят подчеркивать в греческой софистике историки философии [22, с. 114–115]. Поэтому, «чтобы при толковании этого изречения не дать себя запутать обертонами новоевропейской мысли», – говорит Хайдеггер, – необходимо попытаться «снова перевести его», причем «сообразнее греческому мышлению». Такой «перевод» содержит, конечно, уже и интерпретацию [22, с. 115].
В своем переводе тезиса Протагора, сделанном «более сообразно греческому мышлению», Хайдеггер делает ставку на толковании слов χρη µ άτων и ἄνθρωπος из первой части формулировки тезиса Протагора. Прежде всего речь идет о χρῆ µ α . Τὰχ ρή µ ατα (nom.pl.) – это не сущее как таковое и не сущности вообще (иначе можно было бы воспользоваться словом τῶν ὐσιῶν или использовать форму причастия - ὄντων ). Τὰχ ρή µ ατα производное от глагола χράο µ αι ( χρῆσθαι ), означающего «пользование» и «обладание». Τὰχ ρή µ ατα – это то, что «человек имеет в пользовании, в употреблении и постоянном обиходе» [23, с. 115]. Это те вещи, которые оказываются в округе человеческого пристанища. Далее, говоря об ἄνθρωπος , Хайдеггер тоже довольно неожиданно заявляет, что это и не «человек как таковой», не человек вообще, а конкретное «я», «ты» или «он». Поэтому речь идет вовсе не о том, что человек вообще является мерой всех и всяких вещей , а о том, что каждый из нас собирает вокруг себя мир, в том числе и мир вещей, которые попадают нам в дело или оказываются в поле нашего притяжения-пользования, – и все эти вещи, предметы, дела будут сообразны тому, каковы мы сами. И только-то. Здесь не подразумевается ничего больше.
Однако это понимание обнаруживает нашу ответственность или даже заботу о том, какой мир собирается вокруг нас нашей мерою. Человек тут продолжается в вещах – делах и предметах, которые попали в поле его притяжения. И которые им выговариваются для совместного с ним бытия. Это толкование, пусть и имплицитно, полагает идею попечения о том, что попало в округу человеческого пристанища. Как пишет Б. Кассен, тем самым Хайдеггер предлагает «блестящую интерпретацию меры не как ego, но как ограничения присутствия» [17, с. 64].
«Европейский нигилизм» – довольно поздняя статья Хайдеггера, увидевшая свет в 1967 году. Развернутое толкование тезиса Протагора Хайдеггер дает еще в «Добавлениях» ко «Времени картины мира», написанных в 1950-м. Начав, как и в «Европейском нигилизме», с оглашения тезиса Протагора по-гречески: πάντων χρη µ άτων µ έτρων ἐστίν ἄνθρωπος …, Хайдеггер отмечает, что «человек здесь… всегда вот этот (я, ты, он, они)». И это ego никогда не будет совпадать с ego cogito Декарта. Поэтому и перевод тезиса Хайдеггер предлагает такой: «Мера всех вещей (а именно нужных и привычных человеку и тем самым его окружающих, χρή µ ατα χρῆσθαι ) есть (каждый) человек, присутствующих – что они присутствуют так, как они присутствуют, а тех, которым отказано в присутствии, – что они не присутствуют» [21, с. 57]. Заметим, что Хайдеггер и тут тоже производит некую «насильственную» (если вспомнить Гадамера) интерпретацию, поскольку в τῶν µ ὲν ὄντων предлагает увидеть не «сущие вещи» вообще, а только «присутствующие», «присутствующие в округе человеческого пристанища», а τῶν δὲ µ ὴ ὄντων переводит не как «не-сущие», а как все то, чему отказано в своем присутствии человеком. Мерой небытия-как-отсутствия всех этих вещей в округе человеческого пристанища также оказывается конкретный этот вот человек.
С этим намеренно неметафизическим (режущим всякую «метафизику» и одновременно «экзистирующим») толкованием тезиса Протагора мож- но, конечно, и поспорить, поскольку хайдеггеровская интерпретация ставит перед нами новые вопросы, также требующие ответа. Ведь если дело обстоит именно так, как говорит Хайдеггер, и тезис Протагора действительно не предполагает никаких претензий на понимание человека как мерила всех и всяких вещей, то и у Платона не было бы оснований «негодовать» по поводу понимания человека как меры. Или он тоже «прочел» тезис Протагора по-картезиански, в новоевропейском духе?
Исследователь и переводчик Платона Татьяна Вадимовна Васильева (1942–2002) [12, 13, 14]) отмечала: У Протагора человек все-таки провозглашается «мерой всех вещей», объявляется мерой их бытию. Именно поэтому слова Протагора Платон вспоминает «с неизменным негодованием» [13, с. 84]. И наоборот: в «Пире» с явным удовольствием рассказывает об известной еще Аристофану операции, произведенной богами над человечеством, когда Зевс, желая положить конец «заносчивому буйству людей», решает разрезать каждого из них пополам. «А если они и после этого не угомонятся... я, сказал он, рассеку их пополам снова, и [тогда] они запрыгают у меня на одной ножке… Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском… » (Пир, 190 d).
Заносчивость и самомнение (ὕβρις) «софистического человека», отмечала Васильева, для Платона «невыносима». У него каждый человек есть лишь «символ человека», неполная и тяготеющая к восполнению часть. Цельность достигается не обретением родного тела или даже родственной души, но поиском самого себя. Так дельфийская мудрость «Познай самого себя» интерпретируется в диалоге под названием «Первый Алкивиад». Подзаголовок диалога – «О природе человека», действующие лица – Сократ и Алкивиад, лейтмотив – любовь человека к тому в другом человеке, что есть истинно сущее, а не внеш- нее и преходящее. У человека множество разных свойств, но что такое «сам человек», спрашивает Алкивиад. «Сам человек» – не тело и не смешение духовного с телесным, а лишь душа. «Познать себя – значит обратить взор внутрь своей души, постичь присутствие в ней софии-мудрости» (133 b-c). «Поэтому и познает себя лишь тот, кто познает свою душу, тот же, кто знает свое тело, знает свое собственное, но не себя» [15, с. 29]. «Алкивиад I» долгое время считался сочинением не Платона, но платоновской школы. Однако если «Алкивиад I» не сочинение Платона, то это, как заметила та же Татьяна Васильева, все-таки платоновское создание. Именно Платон сознательно и решительно рассек существо человека на два символа – тело и душу, принадлежащих преходящему миру сотворенных и порожденных вещей, с одной стороны, и миру вечных идей – с другой.
Идея о том, что человек – «неполная и тяготеющая к восполнению часть» повторяется у Платона в разных вариациях неоднократно. «Каждый из нас есть символ человека, обтесанный наподобие камбалы, из одного – два. И потому-то ищет каждый без конца свой, из своего человека вырубленный символ» (Пир, 191 d). С этой идеей перекликается широко известный миф о пещере, рассказанный в VII книге «Государства». Человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности, утверждает Платон, можно уподобить такому состоянию: «люди как бы находятся в подземном жилище, наподобие пещеры, где во всю длину ее тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков». Будучи в пещере, видят тени предметов, проносимых на поверхности. Согласно Платону, нужно освободиться от оков и шаг за шагом приучить себя смо- треть на сами вещи – выйти из пещеры вовне, наружу (Государство, 514 a-516 b). Миф о пещере, как и вся философия Платона, имеет ярко выраженную «пайдевтическую направленность». Этот миф можно толковать и так: Платон назначает человеку, однажды рожденному, родиться – выйти из пещеры еще раз, одолев свою исходную ограниченность знанием-миром.
Вернемся к «Алкивиаду I». Как известно, толкование именно этого текста стало точкой отсчета для размышлений о заботе о себе у Фуко (1926–1984), в частности в его известном курсе «Герменевтика субъекта». Эта тема нашла продолжение и завершение в последнем курсе, прочитанном Фуко в Коллеж де Франс, – «Мужество истины». Здесь помимо «Алкивиада I» предметом внимания Фуко становится платоновский диалог «Лахет». В отношении к «заботе о себе» Фуко едва ли не противопоставляет содержание платоновского «Лахета» и «Алкивиада I». С одной стороны, в обоих диалогах есть общая основа: речь идет о том, что нужно позаботиться о воспитании юношей. «Вот только в " Алкивиаде " эта тематика воспи-тания/небрежения/заботы довольно быстро подводит к классической проблеме: о чем нужно заботиться?» И выясняется, что заботиться нужно о душе, так что «тема epimeleia сразу и непосредственно подводит к принципу существования души», – говорит Фуко. В «Лахете» же, согласно Фуко, просматривается несколько иная линия диалога: «объектом, которым надо заниматься, оказывается не душа, но жизнь (bios)», в толковании Фуко это не что иное, как «образ жизни»: понятие, напряженно сопрягающее в себе не только bios, но и ethos, которые вместе и составляют «цель epimeleia» [20, с. 135]. Фуко исследует значение «па-ресиастических» практик (мужества истины), их роль в формировании этического субъекта, выступающего здесь как предмет заботы о себе.
Толкование Фуко и его концепция античной «заботы о себе» достаточ- но хорошо известны и, можно сказать, растиражированны. Представляется, что гораздо менее известно и прокомментировано толкование «поисков себя» в «Алкивиаде I» Платона, принадлежащее Владимиру Бибихину. К толкованию «Алкивиада I» Бибихин обратился в курсе «Собственность», прочитанном в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в 1993/1994 учебном году (см.: [9]). В нем В.В. Бибихин предлагает продумать «собственность», настаивая на том, что наша «непроду-манность в собственности» чревата бедами. Размышляя о собственности как происходящей из «своего собственного», автор курса вынужден разбираться и со «своим/соб-ственным», с тем, что оно такое есть, вовлекая в это обсуждение Платона. Поэтому он говорит о «разысканиях своего» (собственно своего - ауто^ тд «ото) у Платона. Посвященная разбору «Алкивиада I» часть курса была опубликована в журнале «Логос» незадолго до полной публикации всего курса «Собственность». Именно на это издание (фрагмент курса) мы и опираемся в своем разборе (см.: [6]).
Бибихин здесь упоминает однажды имя Фуко [6, с. 86], но фукольди-анское толкование платоновского «Алкивиада I» не рассматривает вовсе. Очень возможно, что в начале 1990-х В. Бибихин с этим толкованием (и соответствующими курсами Фуко в Коллеж де Франс) попросту еще не был знаком. Систематическая публикация курсов Фуко, читанных в Коллеж де Франс, пришлась на начало 2000-х годов. Вместе с тем первая русская публикация фрагмента курса «Герменевтика субъекта» – курса, где Фуко обратился к толкованию «Алкивиада I», состоялась еще в 1991-м (см.: [18]). Так или иначе, приходится признать, что фукольдианские толкования «Алкивиада I» не учтены Би-бихиным в его собственном разборе. Становится ли от этого его толкование менее значимым? На наш взгляд, точно нет. Даже напро-
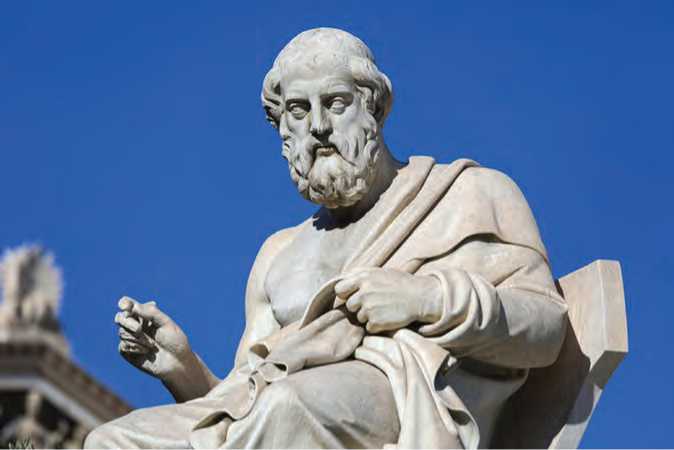
Великий древнегреческий философ Платон (ок. 429–327 гг. до н. э.). Его по праву называют одним из учителей человечества
тив, это толкование еще и сейчас может существенно расширить ту картину epimeleia heautou, которая сложилась через ставшие популярными тексты Мишеля Фуко. У Фуко толкование epimeleia heautou полностью укладывается в рамку его «этики себя» как «эстетики существования». Пьер Адо видел в этом даже «новый вариант дендизма конца XX века» (см.: [3, с. 307–308]). У Бибихина – это род школы, особой школы «знающего себя незнания», открывающей взгляду, как это ни парадоксально, родовое, вселенское и даже Бога.
Бибихин толкует epimeleia не как заботу, он переводит это понятие как прилежание; ἐπιµέλεια ἑαυτοῦ у него – это особый род прилежания, – «прилежание в себе», целью которого является согласие с собой… От несогласия с собой – раздор и война, говорит Бибихин (причем, надо понимать, не в человеке только, но и в окружающем мире). По Бибихину, когда платоновский Сократ льнет к Алкивиаду с вопросами о «своем собственном», то и Платон, как пишет он, тоже «льнет к главному, к узлу древней и современной истории, к греческому взрыву, когда античная культура была сорвана, ее рост (был подменен. – Ю. А.) территориальной экспанси- ей» [3, с. 64]. Поэтому-то разговор Сократа с Алкивиадом и не разговор вовсе: «Игра идет очень крупная, головокружительно крупная, так что даже не верится, что человек Платон может так крупно играть» [3, с. 65]. Ставки в этой игре очень большие – вопрос о полноте человечества: нужно ли, «замахнувшись на человечество», идти «топтать Азию» [3, с. 65]? Или, превзойдя и преодолев непоправимые сирот-ство-оставленность-безотцовство (см.: [2]), ибо «мы ничем не владеем, кроме ἐπιµέλεια и σοφία , только они есть достойные упоминания у эллинов (123 d)» [3, с. 72], размахнуться до человеческого рода в себе [см. 3, с. 64]? Следуя этому толкованию «Алкивиада I», поиск своего и согласие с собой – это ничуть не меньше, как вопрос полноты мира и полноты бытия. А думать о согласии каждого с самим собой как-нибудь слишком просто – например, через вносимое педагогами мировоззрение, или даже особое воспитание, или дисциплину, скажем внутреннюю, – «тоскливо, слишком ясно, что это тупик» [3, с. 81], как пишет Бибихин.
У Платона согласие каждого с самим собой выглядит как что-то много большее: «согласие каждого с самим собой возможно только так, что каждый вопьется в свое, будет занят, захвачен, растворен, поглощен собственно своим и род этого влечения назван в (126 e): соединиться с собой нужно как отец с сыном, как мать с ребенком, как брат с братом, как муж с женой. Не ставится вопрос, а есть ли вообще у каждого человека “свое”. Ах господа, не ставится вот у Платона, и вообще в важной, великой мысли всякой, этот вопрос, что такое свое, да и есть ли оно вообще, а может быть, его и нету вовсе. Эти и подобные вопросы в настоящей мысли просто не стоят, господа… Не вопрос для Сократа, есть ли свое и что такое свое… – забота его в другом, отличить свое принадлежности от собственно своего», – говорит Бибихин [3, с. 81].
Итак, Фуко и Бибихин обращаются к понятию epimeleia. По Фуко, сократическая epimeleia – это забота. Забота и о пресловутой «душе», но также и об «образе жизни». В отличие от Фуко, В. Бибихин переводит ἐπι µ έλεια как «прилежание», особое усердие по части собранности в себе . Без собранности в себе, не раз повторяет он, немыслима собранность полиса и мира . «После человеческого знания незнания, смирения, школы, взгляд в собственно человека, в себя самого человека открывает окошко куда-то очень далеко» [3, с. 86]. Поиск собственно своего, и именно он, неожиданно открывает и родовое, да и весь мир. Пожалуй, здесь уместно вспомнить известное изречение Гераклита: «границ души не отыскать, в каком бы направлении ты ни пошел». Возможно, следуя экспериментам Хайдеггера, следовало бы отказаться от традиционного перевода «псюхэ» в этом изречении как «души». Речь может идти о границах «собственно своего», которые человек всякий раз переустанавливает, теряет и ищет, чтобы обрести заново. В этом поиске «собственно своего» он всегда натыкается на «другое» – «полис» или «мир», «бога» или «природу». И это «другое» – «любовь», «творчество» или «культура» – вдруг позволяет «обретать себя», находить «собственно свое»: αὐτός τò αὐτό .
Подведем некоторые итоги.
Популярность именно фукольди-анской версии «заботы о себе», исключающей из рассмотрения категорию человека-меры (в частности, меры забот), является, на наш взгляд, тревожным показателем тенденции к «заброшенности мира»
(о чем в свое время писал и В. Бибихин (см.: [5]), поскольку тот мир становится скорее «миром сингулярного человека». В то же время у Бибихина и Хайдеггера экзистенциальная ситуация трактуется иначе. Здесь сам человек оказывается существом и мерой ближайшего мира, хотя этот ближайший самому человеку мир может простираться, как говорит Бибихин, очень и очень далеко. И от нас самих в немалой степени зависит, будем ли мы просто заброшены в мир или окажемся в его центре в качестве познающих и созидающих этот мир деятелей.
Список литературы Человек как мера вещей и забота о себе в интерпретациях М. Хайдеггера и В.В. Бибихина
- Адо П. Размышления о понятии «культура себя» // Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.; СПб., 2005. С. 299–308.
- Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 416 с.
- Асоян Ю.А. Метафизика безотцовства у греков в интерпретации В.В. Бибихина // Без родителей: сиротство как социокультурное явление. М.: РГГУ, 2019. С. 39–47.
- Бибихин В.В. Дело Хайдеггера // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 3–15.
- Бибихин В.В. Мир. Томск: Водолей, 1995. 144 с.
- Бибихин В.В. Поиск своего в «Алкивиаде» Платона // Логос. 2011. № 4 (83). С. 63–88.
- Бибихин В.В. Ранний Хайдеггер: материалы к семинару. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. 536 с.
- Бибихин В.В. Сила мысли // Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 5–17.
- Бибихин В.В. Собственность. Философия своего. СПб.: Наука, 2012. 536 с.
- Бибихин В.В. Узнай себя. СПб.: Наука, 1998. 577 с.
- Богатов М. Почему Бибихин не Хайдеггер? О контрапунктах и синкопах русской философской полифонии // Гефтер от 18 мая 2018 года. URL: http://gefter.ru/archive/24972 (дата обращения: 16.10.2020).
- Васильева Т.В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотеля. М.: Наука, 1985. 180 с.
- Васильева Т.В. Комментарии к курсу истории античной философии. М.: Издатель Савин С.А., 2002. 452 с.
- Васильева Т.В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или Мудрость любви. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1999. 207 с.
- Васильева Т.В. Символы человека у Платона // Античная культура и современная наука. М.: Наука, 1985. С. 27–31.
- Гадамер Х.-Г. Греки // Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. 2-е изд. Минск: Пропилеи, 2007. С. 159–175.
- Кассен Б. Эффект софистики. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 238 с.
- Социо-Логос: социология, антропология, метафизика. Вып. 1. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. 478 c.
- Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981/1982 учебном году. СПб.: Нау-ка, 2014. 358 с.
- Фуко М. Мужество истины. Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1983/1984 учебном году. СПб.: Наука, 2014. 358 с.
- Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Республика, 1993, С. 41–62.
- Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 63–176.
- Хайдеггер М. О существе и понятии φύσις. Аристотель «Физика» b–1 / пер. и предисл. Т. Васильевой. М.: Медиум, 1995. 110 с.
- Хархордин О. Что такое собственность? Вы думаете, что знаете ответ на этот вопрос. Философ Владимир Бибихин сказал бы, что вы даже не успели его себе задать // Forbs, май 2009. URL: https://www.forbes.ru/forbes/issue/2009-05/6939-chto-takoe-sobstvennost (дата обращения: 16.10.2020).