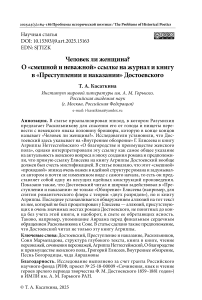Человек ли женщина? О «смешной и неважной» ссылке на журнал и книгу в «Преступлении и наказании» Достоевского
Автор: Касаткина Т.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован эпизод, в котором Разумихин предлагает Раскольникову для спасения его от голода и нищеты перевести с немецкого языка половину брошюры, которую в конце концов называет «Человек ли женщина?». Исследователи установили, что Достоевский здесь указывает на «Внутреннее обозрение» Г. Елисеева и книгу Агриппы Неттесгеймского «О благородстве и преимуществе женского пола», однако интерпретировали эту ссылку как самое общее указание на актуальность женского вопроса в эпоху создания романа и предположили, что прямую ссылку Елисеева на книгу Агриппы Достоевский вообще должен был счесть мистификацией. В статье показано, что этот «смешной» «проходной» эпизод очень важен в идейной структуре романа и задумывался автором в почти не измененном виде с самого начала, то есть онпредставляет собой одну из несущих идейных конструкций произведения. Показано также, что Достоевский читал и широко задействовал в «Преступлении и наказании» не только «Обозрение» Елисеева (например, для снятия романтического флера с теории «двух разрядов»), но и книгу Агриппы. Последнее устанавливается обнаружением аллюзий на тот текст из нее, который не был процитирован у Елисеева — аллюзий, присутствующих в очень значимых местах романа Достоевского, не понятных до конца без учета этой книги, и наоборот, в свете ее обретающих ясность. Таково, например, упоминание Авраама перед финальным сердечным обращением Раскольникова к Соне. В статье сделано также предположение, что Достоевский читал не только эту книгу Агриппы.
Достоевский, Преступление и наказание, Раскольников, Соня Мармеладова, структура глубокого текста, книга в книге, чтение персонажей, сочинения персонажей, Агриппа Неттесгеймский, О благородстве и преимуществе женского пола, Григорий Елисеев, Внутреннее обозрение, Песнь Богородицы, чада Авраамовы
Короткий адрес: https://sciup.org/147251692
IDR: 147251692 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15163
Текст научной статьи Человек ли женщина? О «смешной и неважной» ссылке на журнал и книгу в «Преступлении и наказании» Достоевского
М омент прихода Раскольникова к Разумихину, безусловно, опознается читателями и исследователями как важный и поворотный в сюжете романа, но разговор о том, каким образом Разумихин может помочь «приятелю» заработать, ощущается смешным и нелепым — и потому проходным. Между тем именно самые, на первый (да и на второй) взгляд, нелепые и смешные эпизоды у Достоевского скрывают (и открывают внимательному читателю) самые глубокие основания романных идей. Достоевский именно в смешном и нелепом, непривычном взгляду и слуху, прячет (или, наоборот, научает читателя отыскивать) великое и преобразующее. И в этом он являет себя как реалист в высшем смысле — потому что и в реальности дело обстоит таким же образом, и как воспитатель — потому что стремится воспитать в читателе способность различения.
Говоря в «Дневнике писателя» за октябрь 1876 г. о лучших людях, истинных и «условных», он объясняет общественную необходимость «условных» лучших людей тем, что лучшие люди «первого разряда, то есть истинно доблестные и перед которыми все или величайшее большинство нации преклоняются сердечно и несомненно, — отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы, отличаются странностями и своеобразностью, а снаружи так и весьма нередко имеют несколько даже неприличный вид, то взамен их и устанавливаются лучшие люди уже условно, в виде, так сказать, касты лучших людей, под официальным покровительством: "Вот, дескать, сих уважайте"» [Достоевский, 1981; т. 23: 154]. Но, признавая общественную необходимость «условных» лучших людей, он стремится научить читателя видеть истинных лучших людей и истинно важные идеи под флером неуловимости, странности и своеобразности и даже отчасти неприличного вида — именно потому, что больше-то они нигде и не обретаются, а «условные» лучшие люди и установленные для всех великие идеи формируются путем внешнего оформления заимствованных у лучших людей идей и побудительных мотивов. Так то, что было внутренним двигателем, плохо различимыми глубинными побуждениями, становится легко опознаваемым для внешнего взгляда — но одновременно оно превращается из внутреннего двигателя (и внутренней опорной системы) в экзоскелет, важный для формирования «условных» лучших людей и единых общественных принципов — но и радикально ограничивающий их развитие в перспективе. Достоевскому же важно научиться и научить видеть Учителя, восполняющего, а не воспроизводящего прежде бывшее, движущего человека вперед — под каким бы странным видом Он не являлся, и не принимать за такового фарисеев и законников, превращающих движущие идеи вограничивающие формы.
Когда Раскольников после совершения преступления приходит к Разумихину просить помощи в получении уроков, Разумихин сообщает ему, что уроков у него нет, а есть «книгопродавец Херувимов, это уж сам в своем роде урок» [Достоевский, 1973; т. 6: 88]. И этот Херувимов (совершенно понятно, что такая фамилия не может быть проходной у Достоевского в «Преступлении и наказании», где все имена значимы, — однако не сразу удается увериться, что она здесь значит именно то, что первым приходит в голову; но об этом мы поговорим чуть позже) — так вот, этот Херувимов именно сейчас собирается издавать по поводу женского вопроса брошюру, для которой Разумихин взялся перевести «два с лишком листа» немецкого текста на тему «человек ли женщина?», где «разумеется, торжественно доказывается, что человек». Он готов поделиться с Раскольниковым и предлагает ему второй лист «Человек ли женщина?» — и в этом случае фраза выступает уже не как тема , но как название . То есть — если точно следовать изгибам текста Достоевского, мы здесь имеем две отсылки: первую на некую брошюру, торжественно доказывающую, что женщина — человек, и вторую — на текст с названием «Человек ли женщина?».
Комментаторы нового Полного собрания сочинений Достоевского (в 35 т., далее — ПСС)1, вслед за Борисом Тихомировым, уже указали (и совершенно справедливо) на эти два текста — хотя они (как и Б. Н. Тихомиров) предположили, что «брошюра» была известна Достоевскому не самостоятельно, а только как процитированная во втором тексте, что не соответствует действительности2. Первый текст — брошюра Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского «О благородстве и преимуществе женского пола»3, изданная Санкт-Петербургской Императорской Академией наук в 1784 г. в переводе с латинского, однако автор ее немец. Второй — «Внутреннее обозрение» Григория Захаровича Елисеева, опубликованное в журнале «Современник» (1861. № 5). Следует заметить, что «Преступление и наказание» вообще богато на мгновенные, но очень плотно идеологически вплетенные в текст отсылки к периодике именно 1861 г. Так, Свидригайлов вспомнит о «Безобразном поступке "Века"» — и эта отсылка, связывающая состояние его души с состоянием души тех, к которым «приходил тогда наш Божественный Искупитель» [Достоевский, 1979; т. 19: 137]4, будет одной из самых пронзительных его супратекстовых характеристик. Один из разделов «Внутреннего обозрения» Елисеева начинался словами «Женщины — люди ли?» — и в нем он, кроме собственных рассуждений, перепечатал примерно половину текста брошюры Агриппы Неттесгеймского.
Однако, судя по всему, комментаторы ПСС внутрь «Обозрения» Елисеева (и, тем более — книги Агриппы) не особо заглядывали. Это следует, прежде всего, из того, что они сочли нужным привести целый ряд названий книг и статей о женском вопросе того времени — но которые Достоевский не упоминал в романе. Тем самым они сместили внимание читателя, пользующегося комментариями, на общую социальную повестку того времени, убрав из его сознания вопрос о том, зачем и почему Достоевскому понадобились в романе именно эти два текста. Комментарий создает впечатление, что писатель назвал их лишь для того, чтобы обозначить острое внимание общества к женскому вопросу — и упомянул их исключительно как представителей ряда , который заботливые комментаторы для читателя и восстанавливают [Достоевский, 2019; т. 7: 650–651].
Между тем это не так — и Достоевский так в принципе не работал. Если он включает упоминание легко опознаваемого текста в свое произведение (а после Обозрения Елисеева т екст
Агриппы стал, на взгляд Достоевского, очень легко опознаваемым) — это значит, что текст этот работает на фундаментальные идеи его произведения, и сотрудники научно-исследовательского Центра «Ф. М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН, работая с книгами, включенными в романы «Преступление и наказание» и «Идиот», уже не раз наглядно это показали (см., напр.: [Касаткина, Корбелла, Магарил-Ильяева, Подосокорский]).
Важность этой «проходной» отсылки подтверждается тем, что она планировалась автором буквально с самого начала: то есть, следуя описанию Достоевским работы творца в письме Майкову5, принадлежит к самой сердцевине идеи, которую автор, получив , должен выявить в произведении. Еще в раннем тексте от первого лица , где главного героя зовут Василием (и это важно), она существует практически в том же самом виде, в каком она войдет в окончательный текст6.
Если все же открыть «Обозрение» Елисеева, выяснится, что оно, вообще-то (и Борис Тихомиров это отметил), состоит из двух частей. И первая его часть называется: «Мужики — люди ли?» — что разом помещает этот текст в совсем другой контекст, чем предложен комментаторами ПСС , поскольку эта первая часть с безусловной очевидностью имеет самое прямое отношение к теории двух разрядов Раскольникова. И, прежде всего, эта часть наглядно показывает, что теория Раскольникова действительно и в самом деле ничего оригинального и сколько-нибудь выдающегося собой не представляет, что разделение людей на «разряды» и «породы», определенные самою натурою , — широко обсуждаемый на тот момент вопрос — и что действительно единственное, что принадлежит собственно Раскольникову, как и скажет ему об этом Разумихин, — это идея о праве «высших» по совести убивать «низших». Этой первой частью «Обозрения» Елисеева статья Раскольникова прямо вводится в несколько неожиданный (по крайней мере, для нынешнего читателя) без ее учета контекст — в контекст только что отмененного крепостного права , — и в свете этого контекста Раскольников со своей теорией внезапно оказывается не романтическим грядущим властелином и устроителем мира — а где-то недалеко от Салтычихи.
Приведем цитату, показывающую, насколько Обозрение Елисеева — действительно ближайший контекст статейки7 Раскольникова:
«Мнение о существовании различных пород людей с потомственной, разумеется, передачею качеств породы подтверждается отчасти современною наукою. <…> Принимая во внимание изыскания науки, принимая во внимание бесконечную разницу, которая усматривается в нашем отечестве между людьми благородными и мужиками, почему бы мы не могли отнести последних к тем низшим, первоначальным формам людей, от которых в незапамятные еще времена, при содействии счастливых обстоятельств, несколько неделимых8, успели отделиться, счастливо организоваться (выше Елисеев показывает некоторые формы этой организации: пиратство, разбой, "крышевание", как мы бы сейчас сказали. — Т. К .) и, постепенно усовершенствуясь, образовать нынешнюю породу людей благородных, — или почему бы не отнести их к потомкам ископаемых, хотя не тех, которым принадлежат каменные топоры, найденные Буше де Перт, а положим тех, черепа которых найдены в пещерах Шово и Дании? Нам кажется, что мужички наши этим не обидятся. Да и обидеться, кажется, нечем. Все-таки мы не исключаем ведь их из числа людей, а относим только к породам низшим» [Елисеев: 66–67 / 622–623]9.
Если возразить, что Раскольников совсем даже не утверждает, что качества, проявившиеся в необыкновенных людях, передаются потомству, то и этот взгляд разбирается Елисеевым, указывающим на то, что «еще Платон в своей "Республике" (что ныне на русский язык переводят как "Государство". — Т. К.) говорил, что одни золотые созданы владычествовать». «Но, — продолжает автор, — так как золотой человек может быть отцом железного, то после рождения должно детей всех перемешивать и по обнаружению способностей отличать лучших от худших» [Елисеев: 72 / 628]. Замечу, что совсем недавно мы опубликовали в нашем журнале статью Александра Криницына «Социально-философское осмысление темы справедливости в диалоге "Государство" Платона и в "Преступлении и наказании" Ф. М. Достоевского» [Криницын], где автор показывает мощное идеологическое присутствие «Государства» в «Преступлении и наказании» — но, в связи с тем, что книга не упомянута в романе (и это — учитывая действительно мощное ее присутствие — воспринималось доселе как странное обстоятельство), считает даже нужным доказывать, что Достоевский читал-таки Платона. Однако книга, как мы видим, все же упомянута — можно назвать эту конструкцию «книгой в книге в книге», и вероятно, Достоевский, как всегда переоценивая читателя, считал, что этого косвенного упоминания более чем достаточно. Замечу также, что именно эта цитата вскрывает мощный пласт смыслов в романе, поскольку навязчивый желтый тоскливый цвет, доминирующий там согласно восприятию многих читателей, — это, как я показала в книге «Священное в повседневном» [Касаткина, 2015: 12–13], непроявленный, истощенный или скрытый под наносной грязью солнечный или золотой цвет. Причем Платон считает проявленное золото в человеке врожденным (и Раскольников в своей теории оказывается с ним согласен), а Порфирий, с его призывом к Раскольникову: «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего нужно быть солнцем» [Достоевский, 1973; т. 6: 352], — как и христианство — провозглашает и показывает, что его можно обрести, что солнцем и золотом можно стать, если устремиться сердцем вслед за Христом. Ведь Христос и есть Солнце и Золото романа, а также — мира и каждой человеческой души, следовательно, уже непременно содержащей в себе золото как образ Божий — и лишь не дающей ему проявиться, зарывающей его в «землю» своей выступающей на первый план индивидуальности, «я». И если не счесть единственно годными для исправления мира средства маммоны, внешние, бессильные, не работающие, если ими не распоряжается, их не движет порыв самоотверженного сердца, если герой пытается не отдать свое, а отобрать чужое.
В первой же части Елисеев приравнивает получение образования к получению первоначального капитала . И это тоже высвечивает целую линию романа, наиболее концентрированно выраженную в восклицании Настасьи на отказ Раскольникова учить и учиться:
«— А тебе бы сразу весь капитал?» [Достоевский, 1973; т. 6: 27].
Переход во второй части «Обозрения» к вопросу о женщинах заставляет рассматривать текст «Преступления и наказания» под совсем уж непривычным углом: вдруг и неожиданно становится заметно, что в теории своей Раскольников рассуждает о мужчинах , а убивать-то идет женщин . Между тем во второй части Елисеев сливается с Агриппой вовсе не в апологии , а в похвале женщинам, речь идет совсем не о равенстве, а о достоинстве и превосходстве, благородстве и преимуществе женщин перед мужчинами. Елисеев даже, поставив вопрос: а люди ли — деревенские бабы (надо ли уточнять, что все «Обозрение» пронизано иронией?), — немедленно отвечает, что будет доказывать «обо всех женщинах, что они не только люди, но и люди, по преимуществу, гораздо высшие мужчин», апеллируя к брошюре Агриппы. И пишет далее:
«"Как же это", спросит нас читатель: "ведь это будет противоречие: мужики, говорили вы, люди низшего порядка, а бабы — жены их — будут выше мужчин даже высшего порядка, — это как?"
Благосклонный читатель! Мы уже предупредили вас, что у нас противоречий всегда бездна, что без этого мы вовсе не можем писать. Уж как это там случилось, что женщины всех сортов и видов вышли выше мужчин всех же сортов и видов, только вышли. Вот вам и доказательства» [Елисеев: 79 / 635].
Доказательствами и служат выписки половины текста Агриппы.
Несмотря на свой ироничный стиль, Елисеев в данном случае как минимум наполовину серьезен. И надо сказать, что Достоевский в более поздних, чем роман, черновых записях высказывает ту же мысль вообще без капли смягчающей иронии и оказывается гораздо ближе в своей серьезности к Агриппе, чем к Елисееву:
«Когда-то была идея о mésalliance. Но уже вечные исключения из общего правила показывали о ее несостоятельности. Женщина родится аристократкой и, если достойна того нравственно, всем равна, равна королям» (выделено мной. — Т. К .) [Достоевский, 1980; т. 21: 25 8]10.
Если мы учитываем этот поворот, практика Раскольникова начинает еще более противоречить его же собственной теории.
Текст Агриппы и цитирующего его Елисеева делает вполне ясным, почему Божество в романе Достоевского является в женщине, прежде всего в Соне (и только сильное давление редакции «Русского вестника» заставило писателя передать часть преобразующих Раскольникова речей и функций Порфирию11). Приведем только две цитаты из множества возможных:
«…муж есть естества дело, а жена единственно Божие » (выделено мной. — Т. К .) [Елисеев: 81 / 637];
«И потому жена Божеского сияния в себе показывает более мужа и всегда исполнена оного бывает, что и доселе ясно видеть можно в чистоте ее и красоте удивительной. Ибо самая красота есть не что иное, как Божеского лица и света сияние, вещам дарованное и блистающее в телах прекрасных. Оное всемерно обитает и наполняет более жен, нежели мужей» [Елисеев: 81 / 637].
Исследователи замечали, что Соня выполняет для Раскольникова функцию священника: она принимает его исповедь, надевает на него крест12 — и Агриппа настаивает на том, что женщины способны и достойны ее исполнять (хотя приводит в своем месте объяснение, почему священниками у христиан становятся только мужчины):
«…у Иудеев сестра Моисеева Мариам купно с Аароном в святилище вход имела, и как священница была почитаема. В нашем благочестии, хотя женщинам сан священства и возбраняется, однако знаем из истории, что некогда женщина в образе мущины на высочайшую степень Папского достоинства вступила. Не незнатны и из наших многие святейшие игуменьи и монахини, которых древность не устыдилась бы назвать священницами…» [Агриппа, 2020: 36].
Но наиболее явно ответ на вопрос: человек ли женщина? — звучит в романе в части 6, главе VIII:
«Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один: к ней, Соне, к первой пришел он со своею исповедью ; в ней искал он человека , когда ему понадобился человек ; она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась» (выделено мной. — Т. К .) [Достоевский, 1973; т. 6: 402].
И здесь становится видно, что Соня выполняет для героя то, что выполняет для человека не священник, а Христос — всерьез и полностью, а не ситуативно и функционально входящий в каждую жизнь13.
В тексте романа в соотнесении с текстами Елисеева и Агриппы есть еще очень много интересного, но поскольку объем статьи ограничен, я скажу лишь об одном фрагменте Агриппы, полностью проясняющем причину появления в эпилоге Авраама, о чем уже было составлено немало остроумных и в достаточной степени идущих к делу теорий14. Но здесь все очевиднее.
В самом конце Раскольников все еще не раскрывает Еванге лия, но думает о Соне:
« Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере…» [Достоевский, 1973; т. 6: 422].
И это, надо признать, не совсем то, что обычно можно услышать от русского человека на рандеву о его женщине. Но вот что говорит Агриппа об Аврааме и его духовных потомках:
«…которые оправдившеся верою учинилися чада Авраамовы, чада, говорю, обетования, те подлежат жене, и обязаны оным повелением Бога к Аврааму, обещающего: вся, яже речет ти Сарра, послушай гласа ея » (выделено мной. — Т. К .) [Агриппа, 2020: 41].
Агриппа же, прибегая к кабалистике, утверждает, что «Авраам получил благословение чрез жену свою Сарру, отнятием от имени жены последней литеры h и приданием имени мужа, и назван Абрагам (Прежде Sarah, Abraam, потом Sara, Abraham )» (выделено мной. — Т. К .) [Агриппа, 2020: 29] — то есть Авраам освящается и становится тем, что он есть, — жертвой жены, от нее получая духа (литера h произносится с придыханием или прямо как придыхание). В свете этого утверждения очень интересно разворачивается в романе движение образов, встающих за героями. Соня изначально является как образ Христа в речи Мармеладова15. В сценах с Раскольниковым она приобретает «священническую» функцию — а точнее сказать, в ней, надевающей крест на героя, начинает проступать образ Иоанна Крестителя ( то, что она одновременно надевает крест и на себя, может быть прочитано как отсылка к сцене, в которой Иоанн «удерживал» Христа и говорил: « Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? » (Мф. 3:14) ) . В финале же в ней проступает образ Богоматери: она является как чудотворная икона Богоматери в восприятии каторжников [Касаткина, 2004: 228–229], а в сцене последней встречи герои вместе создают икону Богоматери с Младенцем-Христом («Споручница грешных») [Касаткина, 2004: 230–234]. Можно, кстати, здесь впервые заметить, что Соня проходит весь круг Образов, расположенных на иконе Св. Софии вокруг Софии на троне ( Христос (над головой Софии), Иоанн Креститель, Богоматерь с Младенцем (по сторонам) ) .
Но в данном случае я хочу обратить внимание на другое. В письме матери, в самом начале романа, мы явственно видим Раскольникова в образе Младенца-Христа на коленях Мадонны:
«Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» [Достоевский, 1973; т. 6: 34].
То есть герой здесь предъявлен читателям как второй (после Сони) Христос романного мира — по заданию [Касаткина, 2015: 12, 169, 210]. От задания герой отходит. В финале, однако, ему вновь возвращается то, что обещалось в детстве, но было им попрано и разрушено: он вновь становится участником иконы, образом Младенца-Христа — за счет того, что Соня «отступает» из этого Образа и являет собой в этой сцене Богоматерь. Благодаря ее духовной жертве (как Сариной, отдавшей h) Раскольников возвращается в высочайшую духовную область.
Укажем на последний момент, проясняющий, почему важно, что сцена прихода к Разумихину планировалась Достоевским в романе еще тогда, когда героя звали Василий. Агриппа говорит:
«О фениксе , одинакой птице, Египтяне объявляют, что она самка; напротив того, змий-царь, которого называют Василиском и который из всех ядовитейших есть вреднее, всегда самец бывает, а притом и за невозможное почитается ему родиться самкою» (выделено мной. — Т. К .) [Агриппа, 2020: 32–33].
В окончательном тексте Соня — при первом появлении ее в романе — так и осталась фениксом с огненным пером, а вот в имени Родиона Романовича появились слова «роза» и «крепкий», связавшие его с Христом16.
В завершение скажем о значении фамилии книгопродавца Херувимова: почему она сама в своем роде урок, подобный урокам, извлекаемым из предлагаемых им к изданию книг.
Самая первая ассоциация смущает своей прямолинейностью, но уже несколько читателей, регулярно посещающих церковные службы17, прежде всех — моя сестра, инокиня Елисавета, подтвердили мне ее. В контексте разговора о том, «человек ли женщина?» для них явственно звучит (как, в сущности, ответ на этот вопрос) «Честнейшую херувим…», то есть припев (Космы Маюмского) к Песни Пресвятой Богородицы, составленной на текст хвалебной речи Девы Марии (Лк. 1:46– 55): «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем», поющийся на каждой утрени в православных храмах. И действительно, это песнь о величии, достоинстве и превосходстве женщины, Которая привела Бога на землю и Которая первая из людей вошла в полноту Божества; песнь, в которой припев повторяется после каждого стиха — то есть мощно вторгается в сознание любого (даже рассеянного или редко посещающего службы) присутствующего:
«Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди.
Честнейшую херувим…
Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.
Честнейшую херувим…
Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их .
Честнейшую херувим…
Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи.
Честнейшую херувим…
Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, яко-же глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века.
Честнейшую херувим…» (выделено мной. — Т. К. ).
Заметим, что в двух выделенных мною строках песнопения обнаруживается прямое отрицание теории Раскольникова: просится рассеять «гордых мыслью их сердец» (можно сказать: «изобретающих теории», а еще точнее: «уродующихся в теориях») и низложить сильных с престолов, на которые должны взойти смиренные : прямое переворачивание двух разрядов Раскольникова. Третья же выделенная строка предвещает появление в Эпилоге Авраама как предвестника преображения, ибо милость к семени его обещана во все времена — а милость Бога — это и есть возможность увидеть мир, каков он есть в свете Его присутствия, а не в мысли гордых сердец.
Второе, совсем уж невероятное, соображение, которое я все же выскажу, потому что, раз заметив, развидеть его невозможно, — а это довольно основательный аргумент в защиту того, что связь здесь неслучайна: если мы слушаем песнопение, то есть то, как это звучит для слышащего в храме18, это еще более заметно, чем при чтении — в строке «от ныне ублажат Мя вси роди», словно воспроизводится имя Раскольникова во множественном числе — в том ласковом, снимающем дистанцию, родственном виде, в каком до этой сцены его употребляет только мать героя, а затем еще — Разумихин и Дуня. Возможно, выбирая имя для героя, изначально звавшегося Василием, Достоевский (употреблявший и прием упаковывания смысла в созвучия по типу шарад [Касаткина, 2015: 385]) ориентировался и на это созвучие. По поводу же менявшейся (как и имя Раскольникова) фамилии Херувимова Б. Тихомиров пишет: «Окончательный вариант фамилии также не случаен. По остроумному наблюдению С. В. Белова, она звучит пародийно: "с одной стороны, Херувимов от "херувимы", ангельский чин в Библии (евр. cherubim), а с другой — "естественнонаучные книжки выпускает"" (Белов. Комментарий. С. 115–116)» [Тихомиров, 2005: 147].
Однако, если мы принимаем во внимание Песнь Пресвятой Богородицы, то та единственная книжка, которую именно в момент романного действия выпускает Херувимов, как раз полностью соответствует его фамилии, право, лучше немца доказывающей, что женщина — человек .