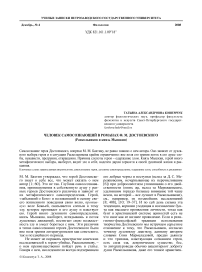Человек самосознающий в романах Ф. М. Достоевского (Раскольников и князь Мышкин)
Автор: Кошемчук Татьяна Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
Самосознание героя Достоевского, вопреки М. М. Бахтину, не равно знанию о нем автора. Оно зависит от духовного выбора героя и в ситуации Раскольникова крайне ограниченно: вне поля его зрения поток в его душе злобы, ненависти, презрения, отвращения. Причина слепоты героя - одержание злом. Князь Мышкин, герой иного метафизического выбора, наоборот, видит зло в себе, наделен даром зоркости к своей душевной жизни и раскаяния.
Православная антропология, самосознание героя, духовное самоопределение, одержание злом, способность к раскаянию
Короткий адрес: https://sciup.org/14749493
IDR: 14749493 | УДК: 821.161.1.09"18"
Текст научной статьи Человек самосознающий в романах Ф. М. Достоевского (Раскольников и князь Мышкин)
М. М. Бахтин утверждал, что герой Достоевского знает о себе все, что может сказать о нем автор [1; 60]. Это не так. Глубина самоосознава-ния, проникновения в собственную душу у разных героев Достоевского различна и зависит от их метафизического самоопределения. Герой, «забывший о Боге» и положивший в основу своего жизненного поведения свою волю, противную воле Божьей, оказывается слепым к тому злу, которое проникает в его душу и властвует ею. Герой иного духовного самоопределения, князь Мышкин, наоборот, вглядываясь в поток душевных движений, постигает свою подвластность злу и умеет бороться с ним. Эти различия в типах самосознания героев Достоевского были вне поля зрения литературоведов как советского, так и позднейшего периода.
Не может не поражать пристрастие советских исследователей к герою-убийце, Раскольникову, – о нем преимущественно пойдет речь в статье. Говоря о нем, исследователи всегда подчеркивали его добрые черты и поступки (вслед за Д. С. Мережковским, исчерпывающе их перечислившим [6]) при добросовестном упоминании о его двойственности (опять же, вслед за Мережковским, уделившим гораздо большее внимание той чаше весов, на которой – все лучшее в Раскольникове), см., например, из позднейших исследований [8; 408], [10; 19–37]. И по сей день сильна эта тенденция, корнями уходящая в восхваление бунта как высшего проявления личности, тогда как бунт в христианской системе ценностей есть не что иное как ее низшее проявление. Если в религиозно-философской традиции истолкования творчества Достоевского мы встречаем серьезное отношение к тому, что Раскольников, согласно точному духовному диагнозу, данному автором словами Сони Мармеладовой, предан дьяволу и что трихина, властвующая сознанием героя, есть сила зла, демоническое существо, бес, то литературоведы обычно акцентируют доброту души Раскольникова, даже его тонкое нравствен-
ное чувство, оставляя в стороне метафизическую реальность зла, одержащего его душу. Пожалуй, единственное исключение - небольшой фрагмент из статьи В. А. Котельникова о праведности и греховности [3; 43], где выражена идея о том, что зло осталось Раскольниковым не опознано.
Действительно, герой, духовно невежественный, забывший о Боге и о своей духовной традиции, находящийся во власти злой силы, не способен опознать то, что он впустил в себя. Все добрые свойства героя остались в прошлом, лишь остатки былого благородства можно зафиксировать в романе, причем неизменно смешанные со злобой и ненавистью, зато поток злых побуждений в романном времени неисчерпаем. Этот поток - вне самосознания героя, вопреки Бахтину, ведь самосознание Раскольникова не проникает в ту сферу, где в его душе дьявол с Богом борется. При этом герой весьма чувствителен, до болезненности, к внешнему и очевидному злу мира, злу в других людях, что будет подталкивать его к бунтарским порывам, то есть только усугублять плененность злом. Об этом ведает всезнающий творец романного мира и сообщает в прямых авторских высказываниях.
Отметим, прежде всего, что именно знает о себе герой. Немногое: иногда он фиксирует свои поступки, например, отмечает, что «налгал и наподличал»1, - это ему внятно, действительно наподличал сверх меры в разговоре с Порфирием Петровичем. Раскольников замечает, что что-то «бормочет» (из-за «привычки к монологам»). Крайне редко в поле его самосознания - чувства: так, он ловит себя на том, что чрезмерно боится квартирной хозяйки или что испытывает страх перед тем как идти в контору. Реже фиксируются мысли, точнее, их неверный ход: он осознает порой, что мысли его «мешаются». Вообще, Раскольникову свойственна утонченная чувствительность - предчувствия, ощущение болезненности своего поведения или неизбежности происходящего. Он отдает себе отчет в подобных болезненных ощущениях, фиксирует, не делая никаких выводов и не давая оценок.
Самое яркое проявление самосознания в жизни Раскольникова - эпизод после «пробы». Он чувствует бесконечное отвращение: «И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце!» Это точная самооценка, казалось бы. Однако характерно, что после минутного прозрения тут же возвращается прежняя власть беса: после первого стакана пива пережитое отвращение к собственной идее объясняется голодом: «Все это вздор...», «и нечему тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, - и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения!». Раскольников «глядит уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени.» Так Достоевский показал, насколько несвободно сознание героя: верная оценка возникает ненадолго и мучительна для души, кажется ужасным бременем. Избавление же от мучительного осознания правды, то есть возвращение власти трихины, «мечты», беса и помутнение сознания герой воспринимает как прояснение мысли.
Эпизоды оценивания героем своих внутренних состояний и внешних поступков весьма немногочисленны в романе, «ожесточенная», порабощенная совесть молчит, чувство раскаяния Раскольникову практически неведомо. Едва ли не единственный раз он сожалеет, что раздраженно махнул рукой при прощании с Дуней.
Но в романе мы находим множество ситуаций (более сотни), когда оценки даются всевидящим и абсолютно авторитетным автором, эти оценки и характеристики автор дает от своего лица, он говорит о герое то, чего тот сам, вопреки Бахтину, о себе не знает, и говорит автор, опять же, вопреки Бахтину, не «с героем» [1; 74], а именно о герое - то есть вполне монологически. Иначе и быть не может: ведь герой не способен открывать зло своего сердца в его поминутных проявлениях, ему не присуще необходимое для этого внимание к своей внутренней жизни, у него нет навыка духовного труда, требуемого от человека отеческой традицией. Автору невозможно говорить с героем, одержимым злом и не понимающим этого. Впрочем, Раскольников не раз упоминает о своем « злом » (здесь и далее в цитатах курсив мой. - Т К. ) сердце, в тон Соне может сказать и о том, что на убийство его «черт тащил», не вполне веря в это, - здесь остатки былой связи с традицией и возможное предвестие возвращения к ней. Но в текущем романном времени осознание реальности зла невозможно для порабощенного сознания героя.
Из трех планов личностного бытия: человек духовный, человек душевный, человек плотский -в романе наиболее подробно прослеживается душевная составляющая. План метафизический (духовная личность, «человек в человеке») не вполне прояснен: «пролог на небесах», метафизический выбор героя, остается «за кадром», предыстория нам почти неведома, мы видим героя уже предпочитающего свою волю, противную Божьей воле, причем без каких бы то ни было размышлений и колебаний. План психологический (эмпирическая личность, или же характер) и бытовой событийный план, телесное мучительное бытие героя показаны подробно, крупным планом. Внутренняя жизнь эмпирического «я», цепь периферийных состояний сознания, переживаний и волнений разворачиваются перед нами как поток проявлений, как довольно монотонное, немногообразное течение душевной зыби: эмоций, всплесков, импульсов, направленных на внешний мир, основной тон которых - злоба, презрение, отвращение, ненависть. И, конечно, торжествующий в духовном самоопределении героя бес действует и во внешних событиях, подстроенных, подсказанных; в их стечении и столкновении сказывается злая воля, смутно ощущаемая героем как нечто странное и поразительное, как «предопределение судьбы».
Поток отмечаемых всеведущим автором злых эмоций, импульсов и порывов показан как подробная симптоматика преДанности дьяволу. В нем можно выделить злые проявления разной интенсивности: это «злоба», «раздражение», «ненависть», «ярость», «бешенство», «исступление». Текст романа буквально пестрит такими словами, как: «злоба», «злобный», «злобно», «злорадно», «злой», «разозлиться». Слова «злоба» и однокоренные встречаются в тексте романа 123 раза, «раздражение», постоянный спутник злобы, - 80 раз. От общего числа слов с основой -разДраж- во всем романе непосредственно к Раскольникову относится более чем половина, с корнем -зл- ( -зол- ) - почти половина. Еще более показательна следующая статистика: если выбрать злобу , данную в прямых авторских сообщениях, то 40 цитат относятся непосредственно к Раскольникову, а 20 - ко всем остальным персонажам вместе взятым. А ведь романный мир и помимо Раскольникова изобилует злом. Вот эти ситуации злобы:
-
- « злобное презрение» накопилось в душе героя;
-
- он просыпается «желчный, раздраженный, злой »;
-
- на его губах «тяжелая, желчная, злая улыбка»;
-
- бормочет, « злобно торжествуя успех своего решения» (решения расстроить свадьбу сестры);
-
- « злоба накипала в нем все сильнее и сильнее^» (при мысли о Лужине);
-
- Раскольников «ужасно разозлился » (на бульваре);
-
- «запенившиеся от злобы губы» (тогда же);
-
- « злобно проговорил Раскольников» - реплику о двадцати копейках;
-
- «хотелось смеяться над собою со злости » (когда вышел из дома без топора);
-
- « тупая, зверская злоба закипала в нем» (тогда же);
-
- «проговорил он вдруг тоже со злобой » (разговаривая со старухой);
-
- «он шел, смотря кругом рассеянно и злобно » (спрятав краденое);
-
- «А черт возьми все это!» - подумал он вдруг в припаДке неистощимой злобы » (тогда же);
-
- он чувствовал отвращение к людям, «упорное, злобное , ненавистное»;
-
- «чуть не захлебнулся от злобы на самого себя» (когда пришел к Разумихину);
-
- «удар кнута так разозлил его.» (в сцене на мосту);
-
- « злобно заскрежетал и защелкал зубами» (тогда же);
-
- « бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске» (тогда же);
-
- «перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом» (в разговоре с Лужиным);
-
- «А вот поймайте-ка его. - вскрикнул он, злораДно подзадоривая Заметова»;
-
- « злобно взглянул на него» (в том же разговоре);
-
- «Лжет! - думал он про себя, кусая ногти со злости » (в разговоре с Порфирием Петровичем);
-
- « злобно сверкнул на него загоревшимися гневом черными своими глазами (на Разумихина в том же разговоре);
-
- «грубо и злобно отрезал Раскольников» (в разговоре с Порфирием Петровичем);
-
- « злоба в нем накипала , и он не мог подавить ее. "А в злобе -то и проговорюсь! - промелькнуло в нем опять. - А зачем они меня мучают!.."» (тогда же);
-
- «слишком уж со зла сорвалось у Раскольникова» (тогда же);
-
- «Да, я действительно вошь, - продолжал он, с злораДством прилепившись к мысли, роясь в ней.»;
-
- «Нет, я ни за что не поверю! - с какою-то даже злобой вскричал Раскольников» (в разговоре со Свидригайловым);
-
- «Да, может, и Бога-то совсем нет, - с каким-то даже злораДством ответил Раскольников» (в разговоре с Соней);
-
- «Но это еще более поДкипятило злобу Раскольникова» (в разговоре с Порфирием Петровичем);
-
- «Он, еще входя сюда, этой злобы боялся» (тогда же);
-
- «И вдруг опять беспредельная злоба блеснула в глазах его» (тогда же);
-
- «Теперь мы еще поборемся, - с злобною усмешкой проговорил он»;
-
- « Злоба же относилась к нему самому»;
-
- «Раскольников злобно усмехнулся» (в третьем разговоре с Порфирием Петровичем);
-
- « со злобою пробормотал Раскольников.» (в разговоре со Свидригайловым);
-
- «Меня только, знаешь, что злит ? Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои буркалы , задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, - будут указывать пальцами... Тьфу!» (слова, сказанные Соне перед признанием);
-
- «почти озлобившись , пошел к дверям.» (тогда же);
-
- «Он мог злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога.» (на каторге);
-
- «голос бившего стал до того ужасен от злобы .» - злоба в первом сне Раскольникова - об избиении лошадки, проекция его собственной злобы, как и в следующей цитате - из сна на каторге:
-
- «убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе ».
Злоба героя ярко окрашена целым спектром чувств: презрением, раздражением, отвращением. Порой его злоба не имеет под собой существенных причин. Так, герой идет по улице, а душу его переполняет « злобное презрение » ко всем окружающим; он просыпается « желчный, раздраженный, злой »; « столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека...», что он не совестился своих лохмотьев; он «был в раздражительном и капризном состоянии, углубился в себя и отдалился от всех...». Далее, «он при первом действительно обращенном к нему слове (когда Мармеладов заговорил с ним) вдруг ощутил свое обычное неприятное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касающемуся или только хотевшему прикоснуться к его личности». Здесь злобное чувство отвращения никак не связано с причиненным злом со стороны окружающих.
Отвращение - постоянное чувство Раскольникова к людям еще до преступления. «Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более, почти с каждой минутой, - пишет о своем герое Достоевский, - это было какое-то бесконечное почти физическое отвращение ко всему встречному и окружающему, упорное, злобное, ненавистное . Ему гадки были все встречные, - гадки были их лица, походки, движения; просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы , кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...». Старуха же, убитая Раскольниковым, это злобное желание осуществила - укусила со зла Лизавету, чуть-чуть палец не отрезали. Это одно из тех, говоря пушкинским словом, странных сближений, которых много у Достоевского, здесь герой и его жертва сродни друг другу в их злобе, в бессмысленной ненависти к окружающим.
После преступления отвращение Раскольникова направлено не на преступление, не на себя, но оно есть общее, тотальное состояние его души. Впрочем, отвращение и вполне конкретно - направлено, например, постоянно на Разумихина, с его желанием помочь, с его энтузиазмом, с его заурядностью, в конечном итоге. Далее появляется и бесконечное, переходящее все границы, отвращение к Порфирию Петровичу, к Лужину, к Свидригайлову - то есть к тем, кто в стане врагов.
Для подобных злобных эмоций есть порой причины: мучительство Порфирия Петровича отражается в душе Раскольникова злобой; он испытывает яркие вспышки злобы на мать и Дуню, которые причиняют ему страдание. Так, по прочтении письма лицо его «было бледно, искривлено судорогой», со змеящейся злой улыбкой. Раскольников пытается помочь девушке на бульваре и злится на франта. Но понятное чувство гнева в последней ситуации обретает характерный - чрезмерный и патологический оттенок: «...ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого человека...»
Один из самых сильных всплесков тупой и действительно бессмысленной злобы - до скрежетания и щелканья зубами - случается после того, как Раскольникова хлестнул по спине кучер «за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей». Удар кнута так разозлил его, что он «отскочил к перилам... злобно заскрежетал и защелкал зубами... Он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удаляющейся коляске...». Здесь троекратно повторенная автором злоба героя доходит до конвульсий. Причина ее - удар кнута - кажется ли достаточной для столь безумных и болезненных проявлений? Ведь он сам шел, не разбирая дороги.
Впрочем, конвульсии вызываются и сущими пустяками: «Он решительно ушел от всех , как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии ...» Скрежет зубов - это еще одно крайнее проявление острейшей ненависти, ассоциирующееся с евангельским, «там будет плач и скрежет зубов» - в аду, конечно, - Раскольников уже почти в аду. Он скрежещет зубами и щелкает ими, как бесноватый, потому что его ударил кучер, тот же скрежет появляется и в ином эпизоде. Потрясенный встречей с мещанином, Раскольников в длинном внутреннем монологе на разные лады перебирает мысль о своем ничтожестве: «Эх, эстетическая я вошь...», «"Да, я действительно вошь", - продолжал он, роясь в своей мысли. "Потому, потому, я окончательно вошь, - прибавил он, скрежеща зубами , -потому, что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь..."» - сквернее и гаже , впрочем, не потому, что убил двух женщин, а потому, с его точки зрения, что «не перенес» своего преступления.
Стоит подчеркнуть: в последней ситуации, как и в немногих иных, когда злоба героя направлена на самого себя, она всегда обретает ложную направленность: не на преступление свое, но на недостаточность, малость, ничтожность своего преступления, он хотел бы быть преступником не мелким, но таким, как Наполеон или Магомет, убить и не мучиться при этом. Герой злится на себя, на свою слабость, то есть на то, что является остатком человечности, - так глубока подмена ценностей в его душе. И характерен градус этой злобы: «Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина». Когда он обнаруживает, что нет топора, когда предприятие его оказалось под угрозой, то бес, правящий душой героя, просто лишает его человеческого облика: «Ему хотелось смеяться над собой со злости... Тупая, зверская злоба закипела в нем».
В сцене на бульваре злоба находит еще одно, крайне болезненное проявление: «Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? - крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами». Пена на губах, это проявление безумной, животной злобы, опять же, как у бесноватых, тяжкий симптом глубокого духовного недуга, появится еще раз - во время разговора с Порфирием Петровичем. «Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена запеклась на губах». Более частый симптом крайнего нездоровья - дрожащие губы, как, например, особенно сильно во время разговора с Заметовым: «...верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося; так длилось с полминуты; он знал, что делал, но не мог сдержать себя». После разговора «лицо его было искривлено, как бы после какого-то припадка».
Любопытно, что Раскольникову нравятся некоторые его злобные и болезненные состояния. Характерно, что он с явным удовольствием куражится над Заметовым, после чего уходит, «весь дрожа от какого-то дикого нестерпимого ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения ». Сладость порока «бездны мрачной на краю» здесь кульминирует: Раскольников в своей игре с Заметовым, слабым противником, чувствует свою силу и дает себе волю потешиться. Но не менее отвратительны подобные состояния и в иных проявлениях. Так, в разговоре с Лужиным: «А правда ль, что вы, - перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом , в котором слышалась какая-то радость обиды, - правда ль, что вы сказали своей невесте...», что выгоднее брать жену из нищеты. Злоба и обида здесь сопряжены с радостью. Или, например, герою нравится уже упомянутое его состояние неряшливой опущенности: «...это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа». Нравится и иное: «Слушай, Разумихин <...> что за охота благодетельствовать тем, которые... плюют на это?..» Начал говорить эти злые слова Раскольников «спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить», как замечает Достоевский. Во втором разговоре с Порфирием не удерживается от вызова : «А знаете что, - спросил он вдруг, почти дерзко смотря на него и как бы ощущая от своей дерзости наслаждение , - ведь это существует, кажется, такое юридическое правило... - сперва начать издалека, с пустячков...» Таковы своеобразные удовольствия героя.
Одно из острых и неконтролируемых проявлений злобы - бешенство, почти беснование, согласно значению слова. В романе состояние бешенства переживают и иные герои: взбешен Раскольниковым Разумихин, в бешенстве Катерина Ивановна и Амалия Людвиговна, даже Дуня по отношению к Свидригайлову; более глубоко бешенство Свидригайлова и особенно Лужина. Но это лишь отдельные вспышки. Бешенство же Раскольникова - почти постоянное состояние в болезни, как отмечает Зосимов, бешенство «чуть не от каждого пустяка». В разговоре с Дуней при слове «пре ступление»: «Какое преступление? - вскричал он вдруг, в каком-то внезапном бешенстве». Бешенство - в снах героя: Миколка в бешенстве, что не может убить лошадку, в бешенстве тот, кто бьет хозяйку, сам Раскольников во сне в бешенстве еще раз пытается убить старуху. Особенной остроты это состояние достигает в разговорах с Порфирием Петровичем: Раскольников «дрожит от бешенства»; далее бешенство еще безудержнее, он отталкивает мысль о том, что Порфирий лжет, «чувствуя заранее, до какой степени бешенства и ярости может она довести его, чувствуя, что от бешенства с ума сойти может». В том же втором разговоре со следователем «Раскольников вдруг впал в настоящее исступление; но странно: он опять послушался приказания говорить тише, хотя был в самом сильном пароксизме бешенства».
В ярость и исступл ение Раскольников приходит многократно. Ярость , опять же, роднит его с Миколкой из сна о лошадке - тот в ярости сечет кобыленку. Сам же мальчик (страдающая душа Раскольникова) « в исступлении » бросается на убийцу. Подобно тому как Катерина Ивановна в исступлении требует правды, « яростно требует, чтобы все жили в мире и радости», или - та же тональность чувства - Дуня приходит в ис-ступл ение от гнева в разговоре со Свидригайловым. Но теперь убийца, Раскольников, переживает иные состояния ярости и исступления - те же, что взбешенный Лужин, «вопящий в ярости », да и в сне об избиении хозяйки ему снится «зверство, исступление » - дикая злоба избивающего, родственная его собственной, изливаемой на окружающих. Так, после письма матери Раскольников «в исступлении »; в это состояние он приходит постоянно во время болезни, требует от Разумихина « в исступлении », чтобы его все оставили; в другой раз Раскольников начал разговаривать с Разумихиным спокойно, «а кончил в исступлении и задыхаясь , как давеча с Лужиным». И в разговоре с Соней « почти в исступлении » говорит о ее «позоре и низости». В ответ на слова Дуни о пролитой крови - «которую все проливают, - подхватил он чуть не в исступлении ». Мысль о Свидригайлове «приводила его в мрачную ярость ». С Порфирием же Петровичем Раскольников впадает в состояние исступления не раз, что фиксирует Порфирий, да и сам Раскольников осознает это и боится себя: в первом разговоре он «вдруг впал в настоящее исступление », кричит в ярости : «Повторяю вам, что не могу дольше переносить...», а во втором разговоре в исступлении кричит: «Ты знал мой характер, до исступления меня довести хотел, а потом и огорошить вдруг попами да депутатами... Ты их ждешь? А?» -так что в безумии злобы теряет даже здравый смысл, изумляя тем следователя. Порфирий Петрович, проникая в душу Раскольникова глубоко, этим же словом характеризует его идею убийства: «...в бессонные ночи и в исступлении она замышлялась». Это верно, здесь авторская оценка: ис-ступивший из себя человек предо с-тавляет свою душу силам тьмы.
Ненависть - высшее выражение отвержения, высший градус злобы, состояние столь же острое, как бешенство, но при этом длительное и упорное, - характерное для Раскольникова состояние. Иных носителей ненависти в романе немного - при всем том, что кульминаций чувств, доходящих до пароксизма, немало. Так, Свидригайлов фиксирует, что он ни к кому «никогда не имел большой ненависти ». Носителем ненависти является Лужин - он ненавидит Раскольникова (уносит в своем сердце « злобную ненависть » к нему) и Лебезятникова («презирал и ненавидел его даже сверх меры»). Вся же остальная «ненависть», многократно повторяемая, обращенная и на врагов, и на близких людей, то как постоянный фон, то острейшими вспышками, неоднократно фиксируемыми, приходится на долю Раскольникова:
-
- Раскольников проснулся и « с ненавистью посмотрел на свою каморку»;
-
- в его душе раздражение «упорное, злобное, ненавистное »;
-
- на Дуню он «посмотрел чуть не с ненавистью»;
-
- в разговоре с ней он говорит о людях: «О, как я их всех ненавижу !»;
-
- Раскольников отдает себе отчет в своей ненависти: «Мать, сестра. Отчего теперь я их ненавижу ? Да я их ненавижу , физически ненавижу .», - но не дает себе труда найти причину;
-
- расставаясь с родными, Раскольников говорит: «Иначе, я вас возненавижу , я чувствую.»;
-
- то же и о старухе: «О, как я ненавижу теперь старушонку!..»;
-
- объект ненависти, конечно, Порфирий Петрович: «.негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит перед ненавистным Порфирием Петровичем»;
-
- Раскольников « ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своею ненавистью как-нибудь обнаружить себя»;
-
- во время своего «длинного смеха» он «долго и ненавистно смотрел на Порфирия»;
-
- когда Порфирий Петрович смеется над Раскольниковым, последний «принимает этот смех с ненавистью »;
-
- подчиняясь Порфирию Петровичу, «с болью и ненавистью осознает, что подчиняется»;
-
- мгновенная ненависть направлена и на Соню: «.ощущение едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу», но любовь Сони победила это чувство, « ненависть его исчезла как призрак»;
-
- при словах Сони о каторге «его как бы вдруг передернуло, прежняя ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его»;
-
- он говорит Соне: «О , как ненавидел я эту конуру !»;
-
- и позднее: «Да, он почувствовал еще раз, что, может быть, действительно возненавидит Соню».
К врагам его ненависть порой доходит до таких пределов, что герой хочет убить человека. Можно отметить пять эпизодов, в которых Достоевский это фиксирует: Раскольникову, причем неоднократно, хочется убить от злобы Порфирия Петровича: «По временам ему хотелось кинуться и тут же на месте задушить Порфирия». «Надо кончить с Свидригайловым», - думал Раскольников, и далее: «.в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере, он чувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать.» В иной ситуации: «"Если Свидригайлов что-нибудь интригует против Дуни, то. тогда я убью его", - подумал он в холодном отчаянии.» Подобное желание направлено и на Лужина: «.злоба накипала в нем (Раскольникове. - Т. К.) все сильней и сильней, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его!» Наконец, столь же сильна ненависть к Заметову: «Он бы, кажется, так и задушил в эту минуту Заметова».
К желанию убить в этих случаях не примешиваются никакие теории - это глубинные и сильнейшие движения сердца - злобная ненависть к врагам, к ним же отно сится и его жертва: «О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется, бы другой раз убил , если б очнулась!» И после этих размышлений ему снится сон, в котором он второй раз пытается убить старуху. Любопытно сходство этой ситуации со сном Раскольникова об избиении лошадки, в котором Миколка (одна из проекций души главного героя) говорит: «Так бы, кажется, ее и убил , даром хлеб ест» - и действительно убивает.
Так что зло в природе героя глубоко: его душа представляет собой, наряду с редкими добрыми порывами, жуткое, болезненное зрелище -кипение бушующей злобы, постоянной, вспыхивающей острейшими пароксизмами. Проявления зла, захватившего, заполонившего душу героя, можно интерпретировать как симптомы одержания: конвульсии; скрежет и щелканье зубов; вспенившиеся от злобы или дрожащие губы; кусание ногтей; злоба захлебывающаяся, задыхающаяся, зверская, неистощимая; сжатые от злобы кулаки; сводящее с ума бешенство; ненависть; желание наплевать, укусить, оскорбить, наконец, убить, задушить.
Все это вне поля осознавания героя. Умом он управлять не умеет, одно из основных положений аскетической практики - «не отдать ума» [9; 237] темным силам - этот навык внимательного отношения к своей умственной жизни, чужд Раскольникову, душой которого бес играет с легкостью, не встречая сопротивления. То, что темная сила «располагает возможностью входить во внутреннюю нашу жизнь и там порабощать нас» [9; 243], - это аксиома для христианского сознания. Но об этой истине Раскольников не имеет ни малейшего понятия. Ему неведомо, что смешение добра со злом - постоянный прием бесов, что это их казуистика отточена, как бритва, в течение многих веков земной истории, что их опытность во зле огромна, что помыслы, внушаемые ими, могут «поколебать и ниспровергнуть нравственные понятия [2; 32], что «начало обольщения ума - тщеславие» [2; 47], что надмение и высокоумие есть первые действия дьявола в человеке, что эти действия всегда тщательно скрыты, так что человек склонен внушения темной силы принимать за свои собственные мысли. И потому при первом же явлении злого помысла нужно отсекать его как нечто чуждое - к этому призывают святоотеческие писатели. Увы, подобная бдительность возможна только на христианских путях и совершенно недоступна Раскольникову.
В христианской традиции накоплен огромный опыт борьбы с темной силой. Многие его положения общеизвестны - духовное невежество Раскольникова поразительно. О том, что с ним произошло, мы можем прочитать у любого из святоотеческих писателей. Темный помысел об убийстве, прилог (так называется в аскетической литературе начальная стадия подчинения злу) вошел в его душу (после подслушанного разговора студента и офицера об убийстве) и, воспринятый не как нечто чуждое, а как собственное порождение, стал властвовать душой, одержать ее. Скажем об одержании краткими словами современного богослова: «Этот тяжкий духовный недуг - следствие того, что человек, находясь в полном духовном расслаблении, не может уже препятствовать действию духа лукавого, свободно вторгающегося в его жизнь. Бес подчиняет человеческую волю своей демонической воле и властвует над ним». Это происходит, когда «человек забывает о Боге, утрачивает всякую память о Нем, и благодать Божия отходит, попуская стать ему жилищем для демонов». И далее: «Враг преследует только одну цель -погубить человека, свести его в ад. Он стремится надругаться над душой, но при этом страдает и тело. Вспомним хотя бы евангельского одержимого гадаринского юношу, который "в новолуния [бесновался] и тяжко страдал, ибо часто бросался в огонь и часто в воду" (Мф. 17, 15). Через эти страдания шаг за шагом приводит дьявол человека к тягчайшему греховному преступлению - самоубийству» [7; 121-122].
Здесь несколько моментов, в точности совпадающих с «Преступлением и наказанием»: герой, во-первых, именно забыл о Боге (по словам Мережковского), утратил всякую память о Нем, и -вспомним еще раз грозные слова Сони Мармела-довой: Бог его поразил, дьяволу предал. Не отошел только и попустил - здесь подчеркнуто именно наказание (что обозначено в заглавии романа). Далее, о страдании души и тела: Раскольников страдает тяжко, и душевно, и телесно, его состояние крайне болезненно на протяжении всего действия романа, его духовный недуг поражает его и телесным, и душевным нестроением, отсюда - бесконечные и разнообразные мучения Раскольникова. Именно потому, прежде всего,
Раскольников вызывает мучительное сострадание читателя. Он болен, и некоторые его злобные проявления есть крайние симптомы болезни. Но болезнь его духовного характера, имя ей мы находим не в медицине, но в пневматологии, и оно есть именно одержимость.
Наконец, о самоубийстве: Раскольников был на этой грани, стоял над Невой, но удержало его, как сообщает всеведущий автор, предчувствие глубокой лжи в его теории. Не греховная жизнь, как бывает, опустошила душу героя и сделала ее жилищем беса, но именно гордыня сознания, и именно в сознании же сохранился последний оплот светлых сил, предчувствие лжи - так что Бог не вовсе отступил, хотя и предал дьяволу, но не отошел вовсе.
Бесконечные же страдания, насылаемые бесом, не идут Раскольникову во благо. «Ибо ничто так не любезно дьяволу, как видеть человека казнимым. Когда же это бывает ему попущено, он, подобно буре, налетает на тех, на коих по попущению Божию получил власть, придумывая одни за другими наведения им непроизвольных страданий <...> чтоб душа, изнемогши под тяжестью скорбей и бед, отбросила всякую надежду на Божественную помощь» [5; 279]. Лишь в конце романа герой о свобождается от страданий и от властвующей им силы - почти чудесным образом, не собственным усилием, но благодаря высшей помощи - только так он и мог быть избавлен, чтобы далее начать самостоятельный трудный и долгий путь к истине.
И вот теперь - важнейшее: только при точном восприятии всего приведенного выше ряда цитат, только ужаснувшись тому, как много зла в душе героя усматривает всевидящий и всезнающий автор, диагност духовной гибели героя, только теперь можно поразиться: все-таки не погиб! Как бы ни был страшен грех, как бы ни было омерзительно зло, мы, читатели, вместе с автором, не ненавидим, но жалеем героя-убийцу, топором убившего двух беззащитных женщин - старуху, которой было в чем каяться, но которая умерла без покаяния, и молодую женщину, кроткую и безропотную. Мы все-таки - об этом позаботился автор и этому истинно христианскому чувству научил нас, читателей, -сострадаем не только Лизавете, мученически, смиренно и безропотно принявшей смерть, не только несчастной старухе, но и их убийце.
Князь Мышкин - герой иного метафизического выбора, не противопоставляющий свою личную волю воле Божьей. Ему, христианину, дана автором глубина самосознавания, чуткость к различению добра и зла не только в мире, но прежде всего в самом себе - в потоке эмоций, побуждений и мыслей. Герой отмечает несовершенства в себе, признается в них, когда его обличают другие. Потому он может показаться кому-то проблематичным с нравственной точки зрения, и если мы хотим опровергнуть обличительский по отношению к этому герою Достоевского, во мно- гом «советский» подход2, то стоит отметить следующее: с точки зрения христианской антропологии зоркость героя к своей внутренней жизни и к своему несовершенству нужно понять как его высокое достоинство - добродетель христианина.
Так, князь Мышкин умеет ловить себя на «двойных мыслях», может признаться в них своему собеседнику, умеет и бороться с ними, как того требует христианская аскетика. Более того, герой осознает неизбежность двоящихся мыслей, понимает их природу, в соответствии с отеческим учением, как внешнюю себе и, в отличие от Раскольникова, наделен даром раскаяния за прегрешения в помышлениях.
Князь Мышкин всегда открыт навстречу другим людям, он их слышит и реагирует на их слова и обличения. Он признается в разговоре с Епанчиными, что бывает недобр, соглашается с обличениями, сознается, например, в осуждаемом собеседником тайном желании проповедовать, в мысли, что «умнее всех проживет». Раскольников же со своей идеей до удивления, вопреки Бахтину, «недиалогичен», его мысль есть идея неподвижная, замкнутая в себе, недоступная для диалога.
Подумав вскользь о человеке с осуждением («И какой же однако гадкий и вседовольный прыщик этот давешний племянник Лебедева»), князь Мышкин способен остановить себя: «А впрочем, что же он взялся их так окончательно судить, он, сегодня явившийся, что же это он произносит такие приговоры?» Заподозрив своих гостей-нигилистов в недобром намерении, князь Мышкин обвиняет себя в «чудовищной и злобной мнительности» и искренно «считает себя, из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении», укоряет себя за многое в отношениях со «злыми мальчишками».
В романе в целом очень много той злобы, которая бушевала в Раскольникове и в иных героях «Преступления и наказания». Порывы злобы постоянно вспыхивают в Рогожине, в Ипполите, в нигилистах, в Настасье Филипповне, в Аглае. Но в князе Мышкине нет вовсе зла. Ни разу это слово не звучит в устах всезнающего автора применительно к князю Мышкину. Впрочем, он готов принять на себя чужую злобу. Так, он говорит Рогожину: «То, что ты вообразил, не существовало и не могло существовать. Для чего же злоба наша будет существовать?» «Какая у тебя будет злоба », - отвечает Рогожин, который хотя и не научился справляться со злом в себе, но о нем знает гораздо больше, чем Раскольников.
Раскольников не осуждает себя за свою ненависть к людям, за злобное презрение: для него люди - ненавистные «идиоты», вызывающие конвульсии своим прикосновением к его миру. Лишь однажды он осудил себя за раздраженный порыв - за гневное чувство по отношению к Дуне. Других же он стыдит неоднократно: Дуню («И тебе не стыдно, сестра?»), в словах же о Со не - поток обличений: грязь, порок, ужас, позор, ужас, смрадная яма. Себя же, убийцу, к блуднице отнюдь не приравнивает, и эти слова к себе отнюдь не применяет. В романе много раскаяния и стыда: в Соне - бесконечно много, в Дуне, которой действительно стыдно за свое решение выйти за Лужина, в матери Раскольникова, которая раскаивается, что затеяла несправедливое дело. Но не в Раскольникове.
Князь Мышкин нередко испытывает состояние острого стыда за себя и глубочайшее, даже гипертрофированное раскаяние. «О, как мучила князя чудовищность, "унизительность" этого убеждения, "этого низкого предчувствия", и как обвинял он себя самого!» - пишет всеведущий автор о прозрениях князя Мышкина, которому открывается готовность Рогожина к убийству. Или о том же: «Новый, нестерпимый прилив стыда, почти отчаяния, приковал его на месте, при самом входе в ворота». В другую минуту в душе князя - не менее сильный порыв стыда: «"Не преступление ли, не низость ли с моей стороны так цинически-откровенно сделать такое предположение!" - вскричал он, и краска стыда залила разом лицо его. О, как он непростительно и бесчестно виноват пред Рогожиным! Нет, не "русская душа потемки", а у него самого на душе потемки, если он мог вообразить такой ужас».
Причем свои «низкие» подозрения по отношению к Рогожину князь Мышкин воспринимает именно как внешнее воздействие - как «нашептывания» своего «демона», внушенные им «унизительные» мысли. Подвластность подозрениям он воспринимает как свой стыд перед Рогожиным и «бесчестие», даже как «низость» и «преступление», фиксирует свои подозрения с краской стыда и ужасом. А далее, уже после попытки убийства, говорит Рогожину об обоюдной, даже равной вине: Рогожин хотел убить, а он, князь Мышкин, думал о возможности убийства, был уверен в его возможности. Ведь для него, христианина, мысль и поступок в своей греховности равновелики.
У него хватает смелости «додумывать» свои «постыдные» мысли, на которых он себя ловит: «Скажи же, если смеешь, в чем? - говорил он беспрерывно себе, с упреком и с вызовом, -формулируй, осмелься выразить всю свою мысль, ясно, точно, без колебания! О, я бесчестен! - повторял он с негодованием и с краской в лице, - какими же глазами буду я смотреть теперь всю жизнь на этого человека! О, что за день! О, боже, какой кошмар!» И далее: «Да, я человек без сердца и трус!»
Исход же из ситуации собственной виновности князь Мышкин также способен найти в соответствии с христианскими путями раскаяния: «...обнять его со стыдом, со слезами...» Князь Мышкин способен и победить своего демона, пусть не окончательно, - не прилепляясь к его внушениям, но сопротивляясь им, с отвращением отворачиваясь от них.
Раскольников же внушения духа зла, нашептывающего ему о том, как правильно бы убить, взять… – не распознает как демона и верит, что эта мысль есть его собственное порождение, сначала отвратительная мечта, а потом – разумное предприятие. Почему же оказалась возможной полная захваченность, глубокая плененность злом этого человека, незаурядного и благородного? Ответ дан Соней: от Бога вы отошли . Поэтому знание внутреннего зла, видение греха, это главное требование христианской антропологии, исключено в мировоззренческой ситуации Раскольникова: он может почувствовать некую неодолимую силу , сопротивляться которой он не может, или чье-то темное присутствие , но поставить перед своим сознанием необходимый вывод не в его власти. Бдительность ко злу в себе возможна только на христианских путях и совершенно недоступна Раскольникову. Но внутренне она близка князю Мышкину, с его зоркостью к своему внутреннему миру и способностью к самопознанию и раскаянию.
Более того, в романе «Идиот» самосознание в его высшей форме связано с мистическим опытом, оно есть не что иное, как путь к мирам иным. Князь Мышкин анализирует свое переживание за секунду до эпилептического приступа: «Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины». Он понимает, что «все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания , а стало быть и “высшего бытия”, не что иное как болезнь», но все же дают «неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни». И еще раз: «Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания , – если бы надо было выразить это состояние одним словом, – самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного».
В «оценке этой минуты», то есть выводе о причастности к высшему бытию, как замечает автор, «без сомнения, заключалась ошибка», но действительность ощущения , опыт переживания высшего мгновения бытия, прикосновения к вечности были вне сомнения. Князь Мышкин говорил, что ему в этот миг «становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет». И читатель не усомнится в подлинности переживания, только достигаться подобные мгновения должны на путях христианской аске-тики, а не страшной ценой болезни и мрака.
Нет, совершенным христианином, соответствующим нашему идеалу христианского подвижника, вряд ли можно назвать князя Мышкина,
«идиота», «мирянина»3, который своими только силами стремился совладать и с человеческими страстями, и со своим демоном. «Господи, покажи мне путь мой», – в одну из высших минут жизни, отрекаясь от «проклятой мечты», от своего демона, молится Раскольников (и это обращение к Богу есть великое предзнаменование для его дальнейшей жизни). Князь Мышкин со своим демоном, увы, один на один – в эпизоде внутренней борьбы с болезнью, надвигающейся из мрака, дух его не поднимается горé, Божье имя не приходит ему на уста. Увы, конечное поражение прекрасного человека, несущего в себе христианские чувства к людям, но столь глубоко вовлеченного в мирское, в здешние страсти и судьбы, неизбежно.
Итак, за всеми глубокими отличиями во внутренней жизни двух героев Достоевского, в их способности к самосознанию, к контролю мыслей и чувств, стоит, конечно, автор, который, созидая свои художественные миры, опирается на христианскую антропологию, следует ее законам, вскрывая в человеке то поле, где дьявол с Богом борется, прослеживает пути этой нешуточной борьбы – духовную слепоту или зрячесть героя, злобную отъединенность от людей или деятельную любовь к ним, и выявляет итог – преступление или самопожертвование. И потому ложным утверждением представляется общеизвестная мысль Бахтина о том, что идеи героев равновелики авторским. Демоническая идея Раскольникова есть трагическая и нелепая ошибка духовно неопытного человека, не стоящая того возвеличивания, которое мы видим в критической литературе. Идея героя есть результат одержания, незнания азов христианского миропонимания. Служение христианской идее князя Мышкина – совсем иного порядка, в духовном отношении бес может в конечном итоге сломить его, но восторжествовать в его душе ему не дано.
Мне осталось добавить в виде тезиса мысль о том, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский использует те же приемы построения характеров своих главных героев, и по-прежнему одной из существенных личностных особенностей героев является их самосознание. Алеша, как и князь Мышкин, живущий без зла в сердце, знает о своем несовершенстве, он тоже со стыдом и ужасом порой фиксирует свои ошибки и грехи и в мысли, и в чувстве. Столь духовно незрячих, как Раскольников, в последнем романе нет: даже Федор Павлович порой осознает глубину собственного зла, это свойственно и Миусову, причем оба они нимало не желают свое зло, весьма различное, обуздывать, и потому в этих ситуациях самосоз-навание превращается в профанацию: осознание внутреннего зла приводит лишь к любованию им и самодовольству во зле. Иван Карамазов, герой, подобно Раскольникову, подвластный злым импульсам, но видящий своего демона, черта, в лицо, не заблуждается относительно первоисточника зла, оно им опознано в значительной мере, хотя можно сомневаться в полноте осознания зла как внешней темной онтологически реальной силы, ибо сильно искушение рассудка – желание признать эту нешуточную силу собственным порождением.
О необходимости видеть свое зло в последнем романе Достоевского говорит старец Зосима как об основном деле монаха. Он призывает: смотри за собой и знай, что ты хуже других, но не бойся своего греха, а раскаивайся в нем.
Лишь на этих путях христианской аскетической практики при полной самоотдаче всей жизни духовному подвижничеству возможно победить мир, возможно истинное самосознание.
В итоге глубина психологизма Достоевского, его пневматологии получает свою подлинную оценку именно на фоне христианской антропологии. Ее учет необходим при стремлении к пониманию художественных концепций писателя.
Список литературы Человек самосознающий в романах Ф. М. Достоевского (Раскольников и князь Мышкин)
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. 316 с.
- Игнатий Брянчанинов, еп. Слово о смерти. М.: «P. S.», 1991. 315 с.
- Котельников В.А. Праведность и греховность//Полярность в культуре (Альманах «Канун», вып. 2). СПб., 1996. С. 20-55.
- Кунильский А.Е. «Лик земной и вечная истина». О восприятии мира и изображении героя в произведениях Ф. М. Достоевского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 304 с.
- Максим Исповедник, св. Умозрительные и деятельные главы//Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского. М.: Паломник, 2003. Т. 3. С. 279.
- Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. М.: Республика, 1995. 621 с.
- Меркурий, еп. Поле жизни. СПб.: Янус, 2007. 168 с.
- Наседкин Н.Н. Достоевский. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2003. 800 с.
- Софроний Сахаров, арх. Духовные беседы. Т. 1. М.; Эссекс: Паломник, 2003. 383 с.
- Тихомиров Б.Н. «Лазарь, гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении. Книга-комментарий. СПб.: Серебряный век, 2005. 468 с.