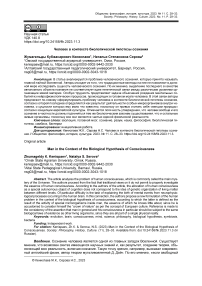Человек в контексте биологической гипотезы сознания
Автор: Кениспаев Ж.К., Серова Н.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема человеческого сознания, которую принято называть главной тайной Вселенной. Авторы исходят из того, что традиционные взгляды на нее не позволяют в должной мере исследовать сущность человеческого сознания. По их мнению, выделение последнего в качестве автономного объекта познания не соответствует идее генетической связи между различными уровнями организации живой материи. Особую трудность представляет задача объяснения рождения ментальных событий из нейрофизиологических процессов, происходящих в головном мозге человека. В этой связи авторы предлагают по-новому сформулировать проблему человека в контексте биологической гипотезы сознания, согласно которой последнее определяется как результат деятельности особых микроорганизмов внутри человека, о сущности которых ему мало что известно, поскольку он привык считать себя «венцом природы» согласно концепции европейской культуры. Отмечается логичность утверждения, что человек вообще и его сознание в частности должны подчиняться тем же биологическим законам существования, что и остальные живые организмы, поскольку все они являются частью единой физической реальности.
Эволюция, головной мозг, сознание, разум, наука, философия, биологическая гипотеза, симбиоз, бактерии
Короткий адрес: https://sciup.org/149144297
IDR: 149144297 | УДК: 140.8 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.3
Текст научной статьи Человек в контексте биологической гипотезы сознания
рост знания будет продолжаться бесконечно, и если мы, несмотря ни на что, приближаемся к тому состоянию, когда один человек сможет понять все, что понято, значит, глубина наших теорий должна увеличиваться достаточно быстро, чтобы обеспечить эту возможность. Это может произойти, если только сама структура реальности настолько едина, что по мере роста нашего знания мы сможем понимать ее все больше и больше» (Дойч, 2015: 25). Как видим, для создания универсальной теории есть одно важное условие – структура реальности должна быть единой. Исходя из такого ее понимания, можно сделать некоторые выводы и относительно сознания человека.
Целью исследования является обоснование учения о человеке на основе биологической гипотезы сознания. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: во-первых, формулируются основные положения биологической гипотезы сознания; во-вторых, разрабатываются методологические основания учения о человеке в контексте этой гипотезы.
Методы . Основными источниками по теме исследования выступили труды Д. Дойча (2015), Д. Деннета (2004), С. Лема (2005), Р. Пенроуза (2005), С. Приста (2000) и других. В качестве общетеоретических методов познания был использован дедуктивный, позволивший из исходных положений вывести основные выводы исследования. Был использован также метод критического анализа, который позволил по-новому оценить традиционные проблемы и устоявшиеся взгляды на сознание человека. Наш научный анализ сущности данного феномена есть попытка смены «угла зрения» на предмет познания. Если обычно сознание рассматривается в качестве высшего этапа эволюции живой материи, то мы стремились показать, так сказать, «обратную сторону медали».
Результаты . Человек есть результат длительной эволюции высших животных, а деятельность его сознания, как правило, ассоциируется с работой головного мозга. Последний состоит в среднем из ста млрд нейронов, связанных между собой синаптическими связями. Клетки головного мозга образуют тысячи соединений, благодаря чему и происходит передача информации. Сложности в объяснении генезиса ментального из физического вынудили некоторых исследователей перейти на позицию так называемого психофизического дуализма, согласно которому деятельность сознания человека независима от физических процессов, происходящих в его организме. Такую точку зрения в свое время высказал Р. Декарт, который, как пишет английский философ Г. Райл, «пытался избежать конфуза путем описания сознания, просто придерживаясь дополнительного словаря. Работа сознания описывалась через отрицание специфических дескрипций, относящихся к телесному: ум не находится в пространстве, он не движется, не является видоизменением материи, он недоступен всеобщему наблюдению» (Райл, 1999: 29). Но такая точка зрения не способна объяснить причинно-следственные связи между физическим и ментальным, которые явно прослеживаются в деятельности нашего сознания. Дуализм в качестве методологической установки, конечно, возможен, но он отдаляет нас от ответа на вопрос о том, что такое сознание, представляя его в качестве самостоятельной субстанции, существующей параллельно с материальными объектами.
В других случаях исследователи исходят из материалистического монизма и сознание «выводят» из головного мозга человека, то есть рассматривают его как результат деятельности сети нейронов. Например, английский философ С. Прист считает, что «решение проблемы сознания и тела состоит в том, что мышление есть ментальная активность мозга, а опыт есть феноменологическая трансформация физического окружения» (Прист, 2000: 277). Кроме того, существует и детально разработанный вариант идеалистического монизма, который широко представлен в классической философии. Особую теорию сознания представил американский философ Д. Деннет, который объявил, что сознания и вовсе не существует, что оно есть выдумка, фикция, результат так называемой интенциональной установки человека. По мнению Д. Деннета, сознание приписывается людям, тогда как на самом деле нам лишь кажется, что действия человека являются разумными. Д. Деннет критикует точку зрения картезианцев, считающих, что в человеке есть некая разумная субстанция, деятельность которой не зависит от деятельности материальной оболочки. Головной мозг, по мнению Д. Деннета, действует по своим законам, но мы по какой-то причине, возможно, в силу своей «исключительности», приписываем ему сознательность. Отмечая гносеологические истоки развития живого, философ заявляет, что эволюция – это прежде всего совершенствование предсказательных возможностей организма. Интенциональной установкой Д. Деннет называет приписывание действиям человека некой разумности, хотя на самом деле ими руководит головной мозг на основе сугубо биологических законов. «Интенциональная установка, - пишет Д. Деннет, - это такая стратегия интерпретации поведения объекта, когда его воспринимают так, как если бы он был рациональным агентом, который при “выборе” “действия” руководствуется своими “верованиями” и “желаниями” … Существуют сотни различных компьютерных программ, которые могут превратить в шахматного игрока любой компьютер. При всех их физических и конструктивных различиях, эти компьютеры поддаются одной и той же простой стратегии интерпретации: воспринимайте их как рациональных агентов, которые хотят выиграть и знают правила шахматной игры» (Деннет, 2004: 14–15). Очевидно, что такой методологический подход ничего не объясняет относительно самого сознания: если оно есть лишь ошибочно предписанная человеку разумность, то и никакой тайны сознания человека не существует. Она объявляется результатом ошибочной интерпретации деятельности головного мозга человека, а потому нет ни сознания, ни всего того, что можно называть разумным. В пользу этой теории можно сказать, что она весьма серьезно встревожила научное сообщество своей нетривиальностью, вызвала большой резонанс и тем самым привлекла внимание представителей различных наук к теме сознания.
Вместе с тем относительно психофизической проблемы в науке сложилась весьма традиционная точка зрения, согласно которой деятельность головного мозга человека имеет два основных вектора – это регуляция жизни организма (физический вектор) и индуцирование психических, в том числе сознательных, актов (ментальный вектор). Эта методологическая традиция берет свое начало еще в античной философии: Аристотель определял человека в качестве политического животного, то есть существа, обладающего как биологическими, так и социальными (ментальными) качествами (Аристотель, 2012). Но и при таком подходе возникают значительные трудности, главная из которых состоит в невозможности объяснения рождения идеального (мыслей и идей) из материального (нейрофизиологических процессов, происходящих в головном мозге).
В науке и философии различают два термина – «сознание» и «разум», единого определения этих понятий или общего представления об отношениях их объемов и содержаний не существует. Но в большинстве случаев разум рассматривают в качестве одного из важных свойств сознания как высшую форму умственной деятельности человека. В некоторых же случаях разум и сознание отождествляются, при этом имеется в виду родовой признак человека. В дальнейшем в целях нашего исследования мы не будем акцентировать свое внимание на принципиальных отличиях данных категорий (которые, безусловно, есть), а станем рассматривать их как взаимозаменяемые, не противоречащие друг другу понятия.
В истории науки время от времени возникают обоснованные сомнения в том, что разум – это наилучший адаптационный механизм, возникший в ходе эволюции. В прошлом веке эта тема наиболее ярко была представлена в трудах польского философа и писателя С. Лема. Подчеркивая мысль, что сложность организма не свидетельствует о его более высоком положении в животной иерархии, мыслитель пишет, что «насекомые существуют несколько сотен миллионов лет. Одни из них строят подземные города, другие выращивают определенные растения для собственного пропитания и “одомашнивают” животных (других насекомых). Ни одна из высших форм, появившихся значительно позднее, не вытеснила насекомых из их экологических ниш» (Лем, 2005: 228). В отношении эффективности адаптационных механизмов насекомых, по мнению философа, нельзя сомневаться, так как они позволили этому виду пройти через миллионы лет и сохраниться, обладая высокой степенью устойчивости. Если по этой шкале оценивать человеческий разум, то он, безусловно, уступает адаптационным механизмам многих живых организмов, находящихся на более низшей ступени эволюционной лестницы. «Вид, просуществовавший сотни миллионов лет, - пишет С. Лем, - уже не должен так “показывать себя” в смысле выживания, как вид, насчитывающий еще только шестьсот тысяч лет. Первый уже сдал экзамены; второй к ним еще только приступает» (Лем, 2005: 229).
Краеугольным камнем в эволюции человека, как считается, стало увеличение объема его головного мозга, позволившее создать идеальные модели реальности, а в конечном итоге – культуру, социальные формы взаимоотношений. Можно ли считать разум наиболее удачным способом адаптации? Вот главный вопрос, который ставит перед нами польский философ. Если судить по тому факту, что из множества подвидов человека в эволюционной борьбе выжил только один вид – Homo Sapiens, то разум нельзя считать удачным решением задачи по выживанию. К тому же глобальные проблемы современности, которые порой кажутся неразрешимыми, дают дополнительный повод для размышлений об эффективности разума как долгосрочного адаптивного механизма. Тем не менее, по мнению С. Лема, именно благодаря разуму возникает человеческая культура, имеющая неоспоримую ценность. «Установление верховной, как бы ультимативной ценности разума является таким самовосхваляющим действием, которое может оказаться обоюдоострым. Потому что в соревновании чисто инструментальных функций мы можем проиграть, и поэтому мы не должны признавать достаточным эволюционно-инструментальное обоснование культуры, а должны признать ее недоказуемую автономную ценность» (Лем, 2005: 233). Критический взгляд на разум человека, содержащийся в творчестве философа, разделяют многие наши современники, но нам представляется, что и сама культура, созданная человеком, должна быть объектом такого же критического анализа, как и разум. В противном случае критика становится выборочной, не тотальной, она оставляет некие сакральные области нетронутыми, объявляя их «автономными ценностями». Под критикой культуры мы понимаем критику европейской культуры, которая весьма агрессивными методами устранила все многообразие культур, существовавшее до эпохи вестернизации, и сильно ограничила возможности человека с точки зрения поиска ответов на вызовы современности.
Если культура есть акциденция (случайное, несущественное свойство) разума человека, то она, как и сам разум, может иметь изъяны с точки зрения способов эволюционной адаптации человека. Автономизация культуры и ее неотъемлемой части – человеческих знаний приводит к диалектическому перевороту, в результате которого субъект и его свойства меняются местами. В частности, знания как основа культуры в некоторых случаях рассматриваются как существующие независимо от самого человека феномены, имеющие собственное предназначение. «Доминирующий сегодня взгляд состоит в том, – пишет Д. Дойч, – что жизнь далека от центрального положения в геометрическом, теоретическом или практическом плане и почти невыразимо малозначима. Общей особенностью для репликантных и нерепликантных генов является выживание знания, а необязательно гена или какого-то другого физического объекта» (Дойч, 2015: 189–190). Таким образом, стремление к объективности в оценке роли разума в эволюции человека часто приводит к невозможности его полноценного критического анализа, так как созданный благодаря разуму искусственный мир культуры для человека стал безусловной ценностью. Здесь мы имеем дело с сюжетом, похожим на известный греческий миф о Пигмалионе и Галатее1: искусственный мир, созданный человеком (культура), становится для него высшей ценностью, гораздо более значимой, чем сама жизнь. Ни один ученый в случае установления им безоговорочных аргументов против культа человеческого разума не решится свергнуть его авторитет, так как разум уже отнесен к разряду сакральных объектов и существует запрет на его окончательное разоблачение. При этом мы уже выходим за рамки науки и оказываемся на территории религии, где существуют автономные области, объявленные сакральными и свободными от всяких посягательств. Опыт представителей иррационализма, сделавших разум человека главным объектом своей критики, не стал мейнстримом интеллектуальной жизни и, по сути, превратился в экзотическую форму философствования. Сами же иррационалисты в большинстве своем были объявлены мизантропами, носителями идеологии ненависти к человеку.
Мы не имеем цели во что бы то ни стало найти аргументы против разума, но ставим перед собой задачу выявить его адаптационный потенциал в плане эволюционного развития человека, его способность находить правильные решения в сложных ситуациях. В обсуждаемой теме, на наш взгляд, большую эвристическую ценность имеет методологический прием, позволяющий мысленно игнорировать жесткую границу между человеком и остальным животным миром, рассматривая их в качестве равных друг другу эволюционных систем, выработавших различные способы адаптации к окружающему миру. Разум в таком понимании проблемы не выглядит более совершенным и выигрышным изобретением, и более того, возможно, человек возлагает неоправданно большие надежды на него. Тем более что сам человек – это не венец эволюции, одержавший абсолютную победу над другими видами, а вполне освоенная экологическая ниша одноклеточных организмов, которых сами люди пренебрежительно называют низшей формой жизни.
Обсуждение результатов . Человек занимает особое место в истории эволюции живого мира, но все же он является частью природы и включен во все типы взаимодействий, существующих между различными видами. Человек не только научился использовать в своих целях другие виды животных, но и одновременно выступает территорией обитания для огромного числа одноклеточных организмов и вирусов. «Бактерии существуют и успешно конкурируют с другими видами организмов уже более 3 млрд лет. С появлением человека как вида многие из них своей экологической нишей избрали человеческое тело. В нашем организме существуют миллиарды бактерий, которые обеспечивают нормальное функционирование организма, а их численность на порядок превосходит численность клеток самого человека» (Кениспаев, 2011: 15). Осознавая факт тесных взаимоотношений с простейшими формами жизни, мы, как правило, находим оправдание в том, что они играют важную роль только в физиологических процессах, происходящих в нашем организме и, конечно, никаким образом не влияют на деятельность нашего разума. В то же время совершенно очевидно, что между самым разумным видом на Земле и простейшими организмами, не обладающими никакой степенью разумности, возник тесный симбиоз, позволяющий им, поддерживая друг друга, побеждать в борьбе за выживание. Считаем возможным задать следующий вопрос – не является ли человек лишь средством достижения своих целей простейшими организмами и, если это так, то не ошибаемся ли мы в оценке своего положения в природе?
Понимаем, что постановка такого вопроса может выглядеть как проявление цинизма, а сама идея – как очередная версия биологизаторства. Но мы лишь предлагаем следовать фактам, объективно смотреть на вещи, не выделять человека в особую касту, принципиально отличающуюся от остального живого мира. Поэтому, пользуясь свободой мысли, которая только возможна в рамках научной дискуссии, мы все же позволим себе такой критический взгляд на человека. История развития науки представляет собой постепенное свержение его с высокого пьедестала, на который он сам себя возвел. Но нельзя забывать, что «планета Земля обеспечивает жизненным пространством миллиарды людей, которые уверены, что являются высшим этапом эволюции. Один человек в свою очередь обеспечивает жизненным пространством миллиарды бактерий, которые видят в человеке естественную среду своего обитания. Не исключено, что именно в этом направлении нужно искать ответ на вопрос о предназначении человека» (Кениспаев, 2011: 15). Трудности в изучении сущности последнего связаны именно с тем, что он выделяется в особый предмет познания, обладающий нетривиальными свойствами, которых больше нет ни у одного живого организма. В этом есть своя антропоцентрическая логика, но насколько она оправдана с точки зрения такого важного требования науки, как объективность? Разум – это главный инструмент человека, позволивший ему стать тем, кем он является сегодня. Но в то же время, если следовать логике развития жизни на Земле, то разум не должен превращаться в абсолютную границу между человеком и животным миром. Между ними должна оставаться генетическая связь как на уровне физиологии, так и на более высоком. Во-первых, потому что нельзя отказывать в разумности некоторым высшим животным. Во-вторых, не исключено, что простейшие организмы внутри человека не только играют важную роль в физиологических процессах, но и имеют некоторое отношение к ментальной деятельности. Специфические качества человека (включая его разум), ставшие основой его уникальных адаптационных возможностей есть результат его «сотрудничества» с другими видами организмов, которые продолжают играть такую же важную роль в жизни человека, как и прежде.
Заключение . Неклассическая наука установила определенную связь между наблюдателем и физической картиной мира. Наиболее ярко она демонстрируется в известном физическом опыте с двумя щелями. Иначе говоря, для создания научной картины мира необходимо включать в нее сознание, в противном случае она получится неполной. «Научное мировоззрение, - пишет Р. Пенроуз, - которое на глубинном уровне не желает иметь ничего общего с проблемой сознательного мышления, не может всерьез претендовать на абсолютную завершенность. Сознание является частью нашей Вселенной, а потому любая физическая теория, которая не отводит ему должного места, заведомо неспособна дать истинное описание мира» (Пенроуз, 2005: 12). На наш взгляд, возвышенное представление о человеческом сознании, сложившееся в европейской культуре, сильно мешает нам видеть его истинные истоки. Правильно заданный вопрос – уже половина ответа. Это известная формула, которой следует придерживаться. По всей видимости, традиция рассмотрения сознания как системы, не зависимой от биологических основ человека, уже исчерпала свой потенциал. Возможно, психические и сознательные процессы определенным образом связаны с деятельностью микроорганизмов внутри человека, о сущности которых мы не так много знаем. Наукой установлено, что многие простейшие формы жизни паразитируют в организмах высших животных, управляя разумом последних и превращая их в зомби. Пожалуй, самый известный пример – это гриб кордицепс, паразитирующий на муравьях. Насекомое, заражённое кордицепсом, уже обречено на гибель, так как споры гриба как бы «захватывают» его разум и для дальнейшего своего развития неотвратимо ведут его к смерти. Поведение зараженного муравья кардинально меняется, он сам как будто бы ищет смерти, и это не остается незамеченным его сородичами, которые в целях безопасности всей группы изолируют больного. Все это удивительным образом напоминает человеческое общество, но в социуме причины неадекватного поведения индивида, как правило, ищут в социальных, политических, религиозных и иных факторах, хотя возможно, стоило бы более внимательно присмотреться к внутреннему миру человека в буквальном смысле.
Чем сложнее система, тем больше шансов у нее сломаться, а чем проще она, тем надежнее. Это правило многократно доказано и является универсальным. Если физическая реальность, как утверждают ученые, в основе своей едина, то и сознание человека как часть этой реальности может быть объяснено из тех же принципов, что и остальной мир. Наша Вселенная на 99 % состоит из самых простых химических элементов - водорода и гелия, то есть она однородна и, несмотря на впечатляющие размеры, в ней действуют одни и те же физические законы. Логично будет считать, что и многообразие живых систем, включая самого человека, подчиняется одинаковым биологическим законам.
Список литературы Человек в контексте биологической гипотезы сознания
- Аристотель. Политика. М., 2012. 393 с.
- Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004. 184 с.
- Дойч Д. Структура реальности. Наука параллельных Вселенных. Ижевск, 2015. 451 с.
- Кениспаев Ж.К. Биологическая гипотеза сознания // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2011. № 1 (19). С. 14-18. EDN: RFMJDX
- Лем С. Диалоги. М., 2005. 255 с.
- Пенроуз Р. Тени разума. М., 2005. 688 с. EDN: QXOIHL
- Прист С. Теория сознания. М., 2000. 288 с.
- Райл Г. Понятие сознания. М., 1999. 408 с. EDN: VXKJID