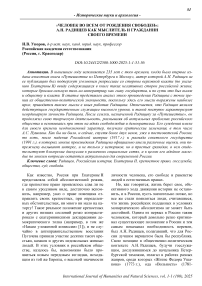«Человек во всем от рождения свободен»: А.Н. Радищев как мыслитель и гражданин своего времени
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 1-1 (100), 2025 года.
Бесплатный доступ
В нынешнем году исполняется 235 лет с того времени, когда была впервые издана известная книга «Путешествие из Петербурга в Москву», автор которой А.Н. Радищев за ее публикацию был подвергнут уголовным репрессиям со стороны верховной власти (по указанию Екатерины II) ввиду содержащихся в книге таких негативных сторон российской жизни, которые бросали сильную тень на императрицу как главу государства, и по сути это был вызов и обществу и власти. В статье представлен анализ этого произведения Радищева с точки зрения их общественно-политической значимости, поскольку здесь его мысли выражены наиболее ярко; приводятся также мысли в иных работах Радищева. Отмечается, что Радищев являлся действующим государственным служащим высокого уровня, и такой поступок характеризует неординарную личность Радищева. После ссылки, назначенной Радищеву за «Путешествие», он продолжил свою творческую деятельность, размышляя об актуальных проблемах российского общества и основываясь при этом на идеях свободолюбия и демократизма. Его суждения имели для своего времени неоднозначный характер, получали критические замечания, в том числе А.С. Пушкина. Как бы ни было, и сейчас, спустя более двух веков, уже в постсоветской России, то есть, после падения Российской империи (1917 г.) и распада советского государства (1991 г.), в которых многие произведения Радищева официально имели различные оценки, они по-прежнему вызывают интерес, и не только у историков, но и простых граждан, о чем свидетельствуют блогерские дискуссии в различных социальных сетях, и в целом его идейное наследие по многим вопросам остаются актуальными для современной России.
Радищев, российская империя, екатерина ii, крепостное право, госслужба, общество, суд, свобода
Короткий адрес: https://sciup.org/170208937
IDR: 170208937 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-1-51-56
Текст научной статьи «Человек во всем от рождения свободен»: А.Н. Радищев как мыслитель и гражданин своего времени
Как известно, Россия при Екатерине II представляла собой абсолютистский режим, где крепостное право проявлялось едва ли не в самом уродливом виде, достаточно вспомнить, например, указ о праве помещика отправлять своих крепостных, при определенных обстоятельствах, ни много ни мало на каторгу! Такое реальное положение крепостных и других низших сословий резко контрастировало с екатерининскими декларациями демократического толка (например, в том же «Наказе уложенной комиссии» [1]), и не случайно в антиправительственном восстании Пугачева приняли участие десятки тысяч крестьян, казаков и других недовольных жизнью людей. В этих условиях в российском обществе, казалось бы, невозможно было проявиться новым передовым взглядам, исходящим из той же Европы, о высокой значимости личности человека, его свободе и равенстве людей в естественных правах.
Но, как говорится, жизнь берет свое, объективного хода движения истории не остановить, и в России, пусть значительно позже, но все же стали появляться люди, считавшиеся, что жизнь российских подданных в условиях монархического абсолютизма не может быть достойной. Одним из первых в России таким человеком, который довольно резко критиковал существующее положение в России и тем самым показывал необходимость перемен, был А.Н. Радищев, полагавший, что для России лучшим вариантом была бы республика. Свою позицию в общественно-политическом контексте А.Н. Радищев, будучи госслужащим, дослужившимся до начальника Петербургской таможни, излагал в работах разных жанров, среди которых «Житие Федора Ушакова» (1773 г.), ода «Вольность» (1781-
1783 гг.), «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.), а затем, уже в ссылке и после нее, можно отметить такие работы, как «О праве подсудимых отводить судей выбирать себе защитника», «Проект для разделении уложения Российского», «О ценах за людей убиенных», «О законоположении», «Проект Гражданского Уложения», «Рассуждения члена Государственного Совета, графа Воронцова, о непродаже людей без земли» и др.
В целом идеи Радищева были созвучны европейского просветительству; еще в годы обучения в Лейпцигском университете, куда он был послан вместе с другими русскими студентами изучать юриспруденцию, Радищев познакомился с работами Монтескье, Мабли, Руссо [2, с. 217]. Своеобразие взглядов Радищева о развитии общества и государства состояло в том, что он сумел связать просветительство с политическим строем России и ее социальной системой – с самодержавием и крепостным правом [3, с. 336], и выступил, как обычно утверждалось в советской литературе, с призывом к их ниспровержению (работы П.А. Орлова, Л.Е. Татаринова, В.П. Се-менникова, Л.Б. Светлова, Ю.Ф. Корякина, Е.Г. Плимака и др.).
Однако нужно иметь в виду, что прямых призывов Радищев к свержению власти, конечно, все же не было, иначе он и не продвигался бы по служебной лестнице. Но, и не будучи явным противником абсолютизма, но высказывался за естественное равенство людей («человек во всем от рождения свободен»), что не соотносилось с существующим тогда государственным строем в России. И в этом смысле он некоторым образом противоречил сам себе, поскольку в будущем Россию видел республикой (впрочем, это противоречие вполне объяснимо, если иметь в виду, в каких конкретно условиях жил Радищев). Другие передовые российские мыслители того времени (Фонвизин, Щербатов, Десницкий и др.) были более умеренными в свих взглядах, не допуская конфронтации с правящим режимом [4]. Но, вместе с тем, их объединяла политико-идеологическая платформа, предусматривающая реформу абсолютизма, расширение представительной составляющей в системе публично-властных отношений, признание ряда естественных прав человека, при- верженность принципу законности и справедливости.
У них были сходные взгляды по многим вопросам, но Радищев ставил вопросы более остро. Свои взгляды Радищев в наиболее концентрированном виде изложил в замечательной по глубине и смелости книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.). Книга получила резонанс, ее прочла Екатерина II, которая немедленно определила, что автор «заражен французским заблуждением» и возмущает народ против власти. Так начался конфликт Радищева с высшей властью, закончившийся, как отмечалось, обвинительным приговором, лишением дворянства и последующим, уже после смерти императрицы, снятием этих обвинений. Рассматривая основные радищевские общественнополитические взгляды, нужно прежде всего иметь в виду, что он определял самодержавие как состояние, «наипротивнейшее человеческому естеству». В этом контексте в своем «Путешествии…» он изложил мысли на этот счет через монолог одной из героинь-странниц, указывая, в частности, что царь есть «первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель» [5, с. 242]. При этом Радищев сомневался в возможность появления в России действительно просвещенного монарха. Он подвергает критике и бюрократию, на которую опирается императрица, подчеркивая развращенность, продажность и необразованность чиновников [3, с. 257]. С этих позиций Радищев показывает теоретическую и практическую несостоятельность крепостного права, представлявшее, по его оценке, не только нарушение естественных законов, но и экономическую невыгодность подневольного труда крепостных крестьян, «мучительство которых рождается вольность» [5, с. 361].
В этом контексте много мыслей о свободе («Велик, велик, ты дух свободы!»), о необходимости народного представительства во власти, имея в виду управление государством, он вложил в оде «Вольность», написанную будто бы случайным знакомым Радищева, с которым он встретился во время путешествия, но совершенно очевидно, что в роли этого незнакомца, то есть, автором оды, был сам Радищев. В «Путешествии» Радищев неоднократно обращается к вопросу о том, что рабство рано или поздно обернется стремлением рабов к свободе, и что будут большие разрушительные события, когда рабы восстанут, в частности, он пишет: «Неведаете ли любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. За-грубелыя все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение неприходящия, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ни что уже в разлитии его противиться ему невозможет … Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас мечь и отраву. Смерть и пожигание, нам будет посул за нашу суровость и безчелове-чие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем» [5, с. 320]. Касается Радищев и свободы слова, приводя, среди прочего, размышления Гердера о цензуре: «Наилучшей способ поощрять доброе есть непрепятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в Царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой Инквизиции» [5, с. 331]. Он много пишет о свободе книгопечатания, приводит примеры Франции, США и других стран, цитирует их законы, в частности, о том, что «свобода печатания есть наивеличайшая защита государственной» [5, с. 347]. Тем самым он, вероятно, хотел показать императрице и иным читателям его книги из власть имущих передовые взгляды на этот счет, вполне допуская, что прочтение ими книги будет иметь для него негативные последствия и желая, возможно, некоторым образом, смягчить для себя эти последствия. Но, как показали события, опыт других стран для Екатерина II и ее чиновников на этот счет оказался не нужным: самовластие должно было быть незыблемым, и никто не должен сметь критиковать положение в стране, руководимой императрице, бросая тем самым на нее тень, никакой реальной политической свободы в той, екатерининской России, быть не должно, и Радищев вполне это понял, когда оказался в тюремной камере за то, что посмел выразить свое мнение в своей книге.
Размышляя о государственном устройстве, Радищев упоминает Великий Новгород и пишет, что «народ в собрании своем на вече был истинный Государь» [5, с. 262]. Он считал, что народ России привержен республиканской форме государственного правления и в будущем представлял Россию в виде свободной и добровольной федерации городов с вечевыми собраниями. Такое устройство могло бы обеспечить естественные права для людей, и суть таких прав заключается в свободе мысли, слова, деяния, защите самого себя, когда того закон сделать не в силах, в праве собственности и быть судимым себе равными. Также как и многие европейские просветители, Радищев был убежден, что природа создала людей равными друг другу. В «Путешествии…» он пишет: «Право естественное показало вам человеков, мысленно вне общества, приявших одинаковое от природы сложение, и потому имеющие одинаковые права, следовательно, равных во всем между собою, и единые другим неподвластных» [5, с. 208]. Естественные права образуются из природной сущности человека., ибо именно природа делает такие права неизменными, независимыми от формы правления и поэтому такие права сильнее государственных законов: «Силы телесные и душевные дает человеку природа. Следовательно, человек есть то, что он есть от природы» [5, с. 209].
В законодательной сфере Радищев также придерживался демократических принципов, полагая необходимым установить равную зависимость граждан от закона и осуществлять наказания только по суду, причем земские суды должны быть избираемы населением, он видел также пользу в учреждении совестных судов, судов присяжных, опять же имея в ви- ду опыт других стран. Довольно много внимания он уделял вопросам о целях и задачах уголовного наказания, содержания наказания, сочетания отдельных видов наказания, соразмерности наказания и преступления, об отдельных видах наказания и т.д. Но в России, во время путешествия, он видел примеры иного рода. Он приводит, в частности, слова своего якобы приятеля, в котором, опять же, выражен сам Радищев: «Несоразмерность наказания преступлению, часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях, некасаяся причин оныя производивших. И последней случай к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. Ибо невозмогши спасти винных, мощною судьбы рукою, в преступление вовлеченных, я нехотел быть участником в их казни. Невозмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности, и удалился жестокосердия» [5, с. 271]. Радищев писал в этой связи, что, прежде чем наказывать преступников, надо устранить причины преступлений, ибо «лучше предупреждать преступления, нежели оные наказывать» [5, с. 275]. При этом А.Н.Радищев рассматривал наказание как охранительную функцию: «казнь законная» не есть иное что, как «ограда прав и общих и частных, и оплот, постановленный против пороков, всё растлевающих, против неистовства нарушившего, против буйства, всё опровергающего, против неправды, злобы и пагубных их следствий, против злодейств и преступления» [5, с. 311].
В своей работе «Проект для разделения уложения Российского» Радищев в этом контексте отмечает, что «лицо естественное или единственное есть каждый человек в своей особенности. Оно больше может иметь прав и обязанностей, нежели лицо множественное, соборное или нравственное … преследуя человеку в общество, закон назначает ему средство, как ему быть гражданином. И если он к обществу не принадлежит, есть странник, то и тут, взяв его под свою защиту, он определяет его с обществом отношения» [7, с. 172-173]. В этом видится гуманитарная составляющая воззрений Радищева. А указанная его работа справедливо считается «крупнейшим юридическим трудом Радищева [8, с. 385], где, в частности, определяется взаимосвязь закона и действий человека («где нет свободы, там нет и обязанности». Много мыслей также об институте собственности и других правовых проблемах.
Как мы отмечали, Радищев в екатерининском времени являлся радикальным инакомыслящим, полагавшим необходимым изменить существовавший в России политический строй. Так, в главе «Хотилов», в рукописи, написанной «неизвестным» автором, намечается ряд постепенных мер, включая освобождение от «рабства» домашних слуг, разрешение вступать в брак без согласия господина, предоставление права выкупа на свободу. Последней ступенью должно быть «совершенное уничтожение рабства». Однако тут же Радищев сам же отвергает этот вариант, поскольку монарх руководим корыстными устремлениями дворянства: «Известно нам из деяний отцов наших, что мудрые правители нашего народа ... старалися положить предел стоглавому сему злу. Но державные их подвиги утщетилися известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чино-состоянием, но ныне обветшалыми и в презрение впавшим Дворянством наследственным» [5, с. 313]. Затем автор обращается к самим дворянам, к их гуманности, к их здравому смыслу. Но и этот путь также оказывается иллюзорным. Автор прекрасно понимает, что, будучи крупными землевладельцами «отчинниками», помещики заинтересованы в бесплатном крестьянском труде и никогда не согласятся добровольно лишиться его. В главе «Медное» он по этому поводу пишет: «А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» [5, с. 352]. Екатерина II, читая книгу, в этом месте сделала пометку: «Надежду полагает на бунт от мужиков» [8, с. 163]. Похожую реплику она отписала на оду «Вольность», размещенную главе «Тверь»: «совершенно и ясно бунтовская, где царям грозится плахою... Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские» [9, с. 165]. Видимо, это были ключевые места в книге, подвинувшую Екатерину к решению сделать Радищева политическим преступником.
Воззрения Радищева об общественногосударственном развитии для России, безусловно, являлись передовыми для своего времени, и в этом смысле, поскольку они шли вразрез по многим позициям существующего строя, то подергались критике. Даже Пушкин также нелицеприятно отозвался об этом про- изведении: «причина его несчастия и славы, есть … очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного» [10, с. 74]. Ф.М. Достоевский по поводу «Путешествия…» и вообще стиля Радищева говорил, что «обрывки и кончики мыслей» у него соседствуют с вольными переводами французских просветителей [11].
Что ж, это были действительно очень сложные переплетения выдающихся граждан нашего Отечества, хотя, например, и Радищев и Пушкин оба, каждый в свое время, находились на государственной службе [12]. В этой связи в литературе отмечается, что, начиная с XVIII в., в русском идейном пространстве имели место две противоборствующих линии: западническая и славянофильская, с тех пор сосуществовали и противостояли друг другу. Вместе с тем всегда осуществлялись попытки «примирения» этих идейных направлений, и в этом контексте Радищев и полемизировавший с ним Пушкин (как Петр I и, западники и славянофилы, Достоевский и В.С. Соловьев и др.) есть закономерные и важные звенья од- ной цепи – истории и идейных исканий России, страны, соединяющей Запад и Восток» [13, с. 142].
С таким подходом следует согласиться. Жизнь обществ, государства, людей очень сложна и противоречива, и однозначных суждений о том, каким быть обществу, нет и быть не может, и это представляется вполне закономерным. Однако отмеченная критика вряд ли умаляет значимость работ Радищева (не только «Путешествия…»), учитывая, что он был на этом поприще первопроходцем, имея в виду и его гражданскую позицию – ведь он был чиновником, и его судьба прямо зависела от воли императрицы, и он, очевидно, прекрасно понимал непредсказуемость своей судьбы после напечатания «Путешествия…» (к слову, у Пушкина не было такой ситуации). В любом случае, несмотря на прошедшие более чем два века, гражданам современной России по-прежнему интересны работы выдающегося российского мыслителя А.Н. Радищева, представляющие не только теоретическое, но и практическое значение [14; 15; 16], в том числе в сфере конституционно-правовых идей [17]. Об этом свидетельствует тот факт, что работы Радищева по-прежнему переиздаются и обсуждаются, в том числе, как показано, в соцсетях. Не менее важна и его гражданская позиция. Его внутренние свободолюбивые убеждения, стремление сделать Россию свободной, избавить ее от крепостничества, оказались сильнее предполагаемых тягот личного характера, являет собой пример высокого служения Отечеству, учитывая и то, что многие его мысли по-прежнему актуальны для российского общества.
Список литературы «Человек во всем от рождения свободен»: А.Н. Радищев как мыслитель и гражданин своего времени
- Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении Проекта нового Уложения // Памятники русского законодательства 1649-1832 гг., издаваемые Императорской Академией наук. - СПб., 1907.
- Титков Е.П. Государственная политика Российской империи в сфере образования во второй половине XVIII века: дис.. д-ра ист. наук. - Арзамас, 1999. - 486 с.
- История политических и правовых учений / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М.: Норма-Инфра, 2004. - 944 с.
- Ахмедова С.С. Политические взгляды Д.И. Фонвизина и А.Н. Радищева: компаративистский социально-философский анализ // Гуманитарный вестник. - 2023. - № 2. - С. 1-17.
- Радищев А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 1. - М.-Л.: АН СССР, 1938. - 501 с.