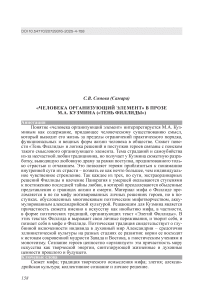«Человека организующий элемент» в прозе М.А. Кузмина («Тень Филлиды»)
Автор: С.В. Сомова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Понятие «человека организующий элемент» интерпретируется М.А. Кузминым как содержание, придающее человеческому существованию смысл, который выводит его жизнь за пределы ограничений практического порядка, функциональных и вещных форм жизни человека в обществе. Сюжет повести «Тень Филлиды» и логика решений и поступков героев связаны с поиском такого смыслового организующего элемента. Тема страданий и самоубийства из-за несчастной любви традиционна, но получает у Кузмина сюжетную разработку, выводящую любовную драму за рамки поступка, продиктованного только страстью и отчаянием. Это позволяет героям приблизиться к пониманию внутренней сути их страсти – познать ее как нечто большее, чем индивидуальное чувственное стремление. Так каждое из трех, по сути, экстраординарных решений Филлиды и влечение Панкратия к умершей оказываются ступенями к постижению последней тайны любви, в которой преодолеваются обыденные представления о границах жизни и смерти. Материал мифа о Филлиде преломляется в не по мифу мотивированных личных решениях героев, но в поступках. обусловленных многовековым поэтическим мифотворчеством, аккумулированным александрийской культурой. Решающим для Кузмина является причастность сюжета именно к искусству как инобытию мифа, в частности, в форме поэтических традиций, организующих текст «Элегий Филлиды». В этих текстах Филлида и выражает свои личные переживания, и творит себя, и познает себя в мифе о Филлиде. Поэтическая традиция свидетельствует о глубинной включенности индивида в духовный мир Александрии – средоточия эллинистической культуры на разных стадиях ее развития: корни ее восходят к истокам сокровенной мудрости Запада и Востока, к гностическим учениям и монотеизму. Сознание героев ценностно «организует» эта причастность миру искусства как творческой энергии, синтезирующей жизненные и духовные ценности прошлого и будущего.
Сюжет мифа, традиция творческого осмысления мифа, элегия, александрийская культура, коллективное сознание и личное решение
Короткий адрес: https://sciup.org/149150089
IDR: 149150089 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-158
Текст научной статьи «Человека организующий элемент» в прозе М.А. Кузмина («Тень Филлиды»)
Mythical plot; poetic interpretation of myth; elegy; Alexandrian culture; collective consciousness and personal decision.
Совершенно разные по содержанию и стилистически новеллы Михаила Кузмина, опубликованные в его «Первой книге рассказов», позволяют увидеть существенные особенности ранней прозы писателя, связанные с тем, что почти два десятилетия позже Кузмин сформулировал как «поиски человека организующего элемента в жизни, при котором все явления жизни и поступки нашли бы соответственное им место и перспективу» [Кузмин 2016, 379]. Глеб Морев, цитирующий эти строки, считает сформулированную в них мысль указанием на «подлинно магистральную тему Михаила Кузмина, сформировавшую его поэтический миф», и добавляет, что писатель всегда искал «органическую целостность», «которая, по Кузмину, лежит вне области искусства и вообще не вербализуема» [Морев 1998, 6–7].
Эти мысли ученого интересны для нас потому, что затрагивают вопрос о кузминском понимании смысла деятельности художника, связанного с пробле- матикой человеческого существования, понятого как целостность. Мы полагаем, что импульсы, заставляющие художника писать, в конечном итоге идут из глубины этой целостности и отвечают его потребности осознать, что движет человеком, каким образом он справляется с тем, что делает с ним жизнь. Искусство для Кузмина – художника и философа – есть работа с этой совершенно практической проблематикой человеческого существования, в которой, в конечном счете, решающую роль играют поступки. Однако главным интересом художника являются все же не поступки сами по себе, а их мотивы, которые далеко не всегда осознаются личностью в полной мере.
Герой Кузмина мыслит себя в определенной среде, и его мысли и заботы во многом ею определяются, но, тем не менее, он не исчерпывается конкретной жизненной ситуацией, с которой может себя отождествлять: существование человека определяется не только ближайшими обстоятельствами его жизни - он принадлежит единству большого мира, и именно это глубинное единство определяет истинные мотивы его поступков, и главная задача личности заключается в том, чтобы познать эти мотивы. Но они не могут в полной мере осознаваться «нормальным» индивидом, как художником не могут быть исчерпывающе описаны психологические процессы, протекающие в сознании личности. Отсюда, по нашему мнению, характерное для прозы Кузмина отсутствие изображения так называемой «диалектики души» героя. На фоне традиции русской психологической прозы XIX в. это было замечено прижизненной критикой. Отмечающееся в литературоведческих работах о прозе Кузмина как «нерусское усиление роли повествовательной интриги и занимательности» для некоторых критиков означало «вытеснение психологии, превращение героев в картонные фигуры» [Марков 1984, VIII].
Герой Кузмина – несвободный человек, поскольку познать себя – задача для него почти недостижимая, так как она требует преодолеть слишком много границ, в которых он себя привык мыслить – это границы социальных представлений, страстей, морали – готовых моделей решения всех вопросов и соответствующих этим границам поступков. Тем не менее герои Кузмина находятся на том пороге, где могло бы начаться или только начинается самопознание.
Персонажи рассказов данной книги совершают необычные, если не фантастические поступки – Филлида, Анна Мейер, Клара Вальмон, Костя, Фрол; переживают нечто выводящее их из обычного, «нормального» состояния человека. Нужно подчеркнуть неординарность решений и неординарность ситуаций: такие решения возможны в условиях обретения рефлективной дистанции к жизненной ситуации, с которой герой не может смириться – и это уже выход сознания за пределы его заданностей и заданностей жизненной среды. «Интересное» фабульное событие – событие в пределах мира героя – обретает смысловую значительность, даже если оно связано с сознанием, горизонт которого не выходит за пределы знаний, которые дает ему окружающий мир.
У Кузмина свой повествовательный метод – избегая анализа конкретных психологических мотивов, не углубляясь непосредственно во внутренний мир героя, писатель описывает типологически существенное во внешних реакциях личности, определяемых, в конечном итоге, чем-то, что лежит глубже его сознания. Это глубинное содержание желаний и стремлений личности осуществляется у Кузмина на уровне «потустороннем» для сознания героя – уровне собственно искусства. Во вступлении к книге «Условности. Статьи об искусстве» 1923 г. Кузмин сформулировал свое представление об истинных задачах искусства:
Тогда как развитие точных наук, техники и механики, коренные изменения политических и общественных взаимоотношений неукоснительно протекают во времени и пространстве, освобождение от этих понятий (всегдашняя мечта человечества) можно наблюдать только в области искусства, простейших чувств, исконных движениях духа и анатомическом строении человеческого тела.
Конечно, каждый художник живет во времени и пространстве и потому современен, но интерес и живая ценность его произведений заключается не в этом [Кузмин 1923, 155].
«Время» и «пространство» – это актуальные, «современные» обстоятельства жизни художника и читателя, которые оцениваются писателем как то, от чего человек жаждет освободиться и как то, что далеко от подлинного смысла искусства - «живой его ценности». Кузмин видит ценность искусства в том, что способно вывести человека из-под власти действительности, создать творческую дистанцию к наличному времени и пространству. При этом и искусство, и исконные, то есть глубинные «движения духа» ставятся в один ряд с органическими началами жизни, – «простейшими чувствами» и «анатомическим строением человеческого тела», которые вместе с «исконными» движениями духа образуют «органическую целостность» жизни. Пересекаясь с практической реальностью, она, вместе с тем, противостоит актуальному времени и пространству. Кузмину было свойственно «умение и желание смешивать вечное и повседневное, бытовое и бытийственное» [Богомолов, Малмстад 1995, 97]. Таким образом, искусство не отрывается от жизни, а коренится в ее глубинах и тем самым поднимает человека над «вещественной реальностью» техники, политических интересов и общественных практик.
Поэтому Кузмин создает для поступков и сознания его героя раму и контекст многовекового опыта искусства – континуума духовной культуры человечества. Это для него резервуар живого опыта преодоления границ обыденного сознания и видения человека во всем объеме его истинной жизненности. Он пользуется арсеналом выработанных за многие века мировой культуры художественных, литературных традиций, различных стилевых и жанровых форм изображения человека. Эти формы искусства, заключающие в себе различные способы понимания человека, есть сокровищница духовного опыта многих эпох культуры, связанных с конкретными стилями существования человека в культуре, отношением к жизни, смерти, любви, судьбе, к другому человеку – с этической практикой, различными моделями совершения поступков. В конечном счете, писатель ищет таким образом «организующий элемент в жизни, при котором все явления жизни и поступки нашли бы соответственное им место и перспективу». Конечно, это то, что конкретная личность героя не может осознать в полной мере. Тем не менее герой Кузмина действует в этих пределах, в том числе совершая не совсем обыкновенные или совсем необыкновенные, но, тем не менее, значительные для понимания проблем человеческого существования действия и поступки.
Это особая кузминская двуплановая модель построения образа героя. «Средний человек», живущий в стихии совершенно бытовой реальности и по-бытовому ограниченного ее восприятия, становится одновременно носителем и выразителем определенных духовных и нравственных оснований человеческого существования. Это всегда быт, но понятый через призму знания полноты существования человека. Тем самым оно становится способом пости- жения и представления «организующего элемента в жизни», в свете которого все, что случается с человеком, «находит свое место и перспективу», выявляет смысл происходящего.
Рассказ «Тень Филлиды» отличается от большинства прозаических произведений Кузмина тем, что бытовые аспекты бытия человека сведены здесь до минимума. Это способствует тому, чтобы увидеть в данном тексте очертания этого «организующего», управляющего героями Кузмина «элемента» или «начала» в как бы очищенном и органическом виде, – в особенном «синкретическом», кузминском времени Александрии [Панова 2006], что может позволить увидеть эту особенность образного мира писателя и в других его рассказах.
Фигура Филлиды восходит к древнегреческому мифу о самоубийстве от несчастной любви; в европейской культуре она жила главным образом в эклогах и пасторальных сюжетах как безнадежно и безрассудно влюбленная пастушка (в «Героидах» Овидия Филлида пишет своему возлюбленному, что она могла провиниться перед ним только тем, что любила «безрассудно» [Овидий 2000, 100]), а также как воплощение женственности, вызывающей непреодолимое желание мужчины. В русской поэзии ее имя фигурирует в качестве имени милой, беспечной, беззаботной девушки (см., например, у Н.М. Карамзина: «Будь радостна, беспечна, / Как радостен, беспечен / Певец весны и утра, / Виясь под облаками!» [Карамзин 1966, 83]). У Кузмина глаза Филлиды «беспечные» [Кузмин 1910, 121], ее любовь по большей части «легкая». Евгений Онегин в романе А.С. Пушкина иронически использует это имя по отношению к Ольге Лариной: Г.Ю. Карпенко показывает, как по мере развития сюжета пушкинского романа нарастает чувственность образа Ольги и отдельные соматические его аспекты [Карпенко 2011, 90–95].
В мифе Филлида – дочь фракийского царя Ситона, влюбившаяся в сына Тезея, Демофона, когда он по пути из Трои в Афины потерпел кораблекрушение и задержался у Ситона. Демофон также полюбил ее, они обручились; отправляясь на родину, он обещал вернуться и жениться на ней, но не вернулся в назначенный срок, и Филлида, потеряв надежду на его возвращение, покончила жизнь самоубийством – повесилась или утопилась. Когда Демофон вернулся, он нашел могилу Филлиды, и на ней два миндальных дерева без листьев. Испытывая боль от потери любимого человека, он обнял деревья, поцеловал их, и они, по логике мифа, выпустили листочки, которые и есть Филлида (Phyllis – по греч. листья, листва). По другой версии мифа, все это случилось с его братом Акамасом; прощаясь с ним, Филлида дала ему ларец с указанием открыть его в случае, если он потеряет надежду когда-нибудь ее снова увидеть. Когда Акамас узнал о смерти Филлиды, он открыл ларец и с этого момента его стали преследовать страшные видения или существа, в результате чего он падает с коня на свой меч и погибает [Ersch, Gruber 1969, 51; Мелетинский 1990, 557–558]. Это выглядит как наказание или месть, похожая на самоубийство. В обоих случаях Филлида возрождается или является возлюбленному из мира мертвых, но по-разному.
Кузмин, помещая этот сюжет в мир александрийской культуры, имея в виду несколько версий мифа и традиции его обработки, со всей очевидностью использует овидиевскую версию мифа, изложенную в «Героидах» в виде письма Филлиды, в котором она, жалуясь на неверность любовника, пишет о решении покончить жизнь самоубийством, что станет его наказанием [Овидий
2000, 103]. Однако в отличие от этого письма Филлиды, которая в мифе погибла, Филлида Кузмина, спасенная Нектанебом, сочиняет прощальное письмо Панкратию – в целях его обмана и наказания за холодность («хлопала в ладоши, <…> волнуясь и радуясь» [Кузмин 1910, 115]), надеясь таким образом пробудить в нем чувство любви.
Вместе с тем овидиевский текст письма Филлиды соотносится и с текстом свитков «Элегии Филлиды, несчастной дочери Палемона», в которых развертывается картина развития любовного чувства Филлиды, приводящего ее к решению о самоубийстве из-за предполагаемой неверности возлюбленного. Однако эти написанные рукой переписчика свитки Филлида получила после своей мнимой смерти, а передал их ей рыбак Нектанеб, получивший их от самого Панкратия. Текст составляет пятую главу рассказа, он ярко выделен и образует один из композиционных центров произведения. Филлида читает элегии, и они напоминают ей о ее страданиях: девушка читала, «вздыхая и плача над своими собственными словами» [Кузмин 1910, 123]. Каким образом якобы написанное самой Филлидой оказывается в руках переписчиков и Панкратия? Просто по мифу: исполняется желание Филлиды, высказанное в ее письме Де-мофону у Овидия [Овидий 2000, 103].
Элегии Филлиды у Кузмина восходят к ее жалобам у Овидия, но они выстроены в другой логике и в других стилевых и строфических формах, отсылающих к разным эпохам. Сюжет любовной драмы девушки, названной по имени и по принадлежности к роду ее отца, дан в стилистике, близкой «Александрийским песням»; при этом мотив «списка» может отсылать к формам бытования этих элегий как коллективного достояния. Переписчик (или Панкратий) называет имя автора элегий: «Элегии Филлиды», но для читателя это может быть указанием не только на автора, но и указанием на миф, на какую-то версию письма овидиевской Филлиды, на Филлиду как возлюбленную Панкратия, переписавшую в свой свиток кем-то сочиненные элегии.
Сюжет и жалобы Филлиды, представленные Овидием, в целом восходят к мифологическому сюжету, известному в различных версиях и текстах, как они около трех тысяч лет жили до и после Овидия, который мог быть почти современником александрийской Филлиды (Панкратий читает с друзьями Филона, жившего с 25 года до н. э. до 50 года н. э.). Мотив страданий мифологического персонажа бытовал задолго до александрийской Филлиды, которая, естественно, могла отождествлять себя, свою любовь и свою судьбу, с Филлидой греческого мифа. Но название свитков может говорить о Филлиде не просто как сочинителе, но и о Филлиде как о настоящем поэте, по-своему перелагающем миф или его овидиевскую версию. И тогда ее «беспечность» начинает звучать по-пушкински, ее эмоциональность и склонность к игре, театральным переодеваниям – свидетельствовать о поэтическом даре.
Текст свитков составлен из разных по форме стихов («и еще было написано много»), имеет название и композицию, последовательность расположения песен – от первой, представляющей собой песню сироты, до тех, в которых говорится о ее любви и затем о смерти: «Утром солнце румяное встанет…» [Кузмин 1910, 23]. Составителем мог быть и Панкратий: ритор, философ, возможно, поэт, испытавший боль потери и чувство вины, отредактировал тексты и составил сборник, – назвав другие имена: Филлида здесь дочь Палемона, но ее возлюбленный – Панкратий. Само имя Филлида, которым девушку нарекли при рождении, включает ее в мифологический сюжет и, таким образом, определяет ее судьбу – быть Филлидой. Поэтому поэтические тексты, которые
Филлида читает, это не только то, что она сама написала или переписала в свой свиток, но и то, что творилось, писалось и переписывалось столетиями, что принадлежит всем, в том числе и ей, – на роду ей написано отождествлять себя с Филлидой мифа.
С этой точки зрения вопросы, которые возникают по фабуле рассказа, в частности, о том, каким образом элегии Филлиды оказались у Панкратия и были записаны рукою переписчика, не имеют значения. Значение для Кузмина имеет причастность сюжета к искусству и через него – глубинная органическая включенность индивида в сверхличный духовный мир Александрии, являющейся средоточием эллинистической культуры. Корни этой культуры восходят к истокам и сокровенной мудрости Запада и Востока, к гностическим учениям, к греко-латинской, иудейской, египетской, а затем и раннехристианской культуре и ценностно освещают духовную жизнь последующих эпох жизни Европы. Кузминскую Александрию Л. Панова характеризует как синтез прочитанного и увиденного поэтом: «древнеегипетская поэзия; история эллинизма, гносиса, раннего христианства; современная Кузмину поэтическая и прозаическая ориенталистика…» [Панова 2006, I, 328]. Искусство несет в себе этот мир, принимая в себя и многие другие миры с их ценностями и их духовностью.
Герой Кузмина – частный человек, озабоченный своими интересами и переживаниями. Его жизнь включена в большое единство культурной традиции, он совершает поступки, обычные в пределах его круга жизни, но, с точки зрения гностического учения, которое ценил и истины которого учитывал Кузмин, задача человека – пройти до конца трудный путь самопознания и подняться до истинного знания природы добра и зла, стать духовно свободным. Это удел избранных, но обычный человек тоже способен преодолевать свои ограниченности и границы, открываться пониманию отдельных истин, и искусство может указать на эти его духовные возможности. Так, герои рассказа «Тень Филлиды», оказываясь по воле судьбы в критической ситуации, совершают необычные поступки, выводящие их за пределы бытового сознания.
Фабульный ряд рассказа «Тень Филлиды» образуют три экстраординарных поступка героини и один такой поступок ее возлюбленного Панкратия. Это – решения Филлиды: 1) покончить жизнь самоубийством, 2) скрыть, что ее спас рыбак, чтобы возлюбленный считал ее мертвой, и 3) явиться на любовное свидание с Панкратием, представляя себя тенью, явившейся из могилы. И, наконец, это экстраординарное решение Панкратия – вызвать тень Филлиды на любовное свидание. Каждый из этих поступков – есть результат сознательного решения выйти за границы времени и пространства, совершить невозможное.
Тема страданий и самоубийства из-за несчастной любви традиционна, но получает сюжетную разработку, создающую ряд ее драматизаций, акцентирующих моменты решения совершить поступок, выводящий любовную драму за рамки поступка, продиктованного только отчаянием. Это позволяет героям подняться до постижения-переживания не только своей драмы, но и приблизиться к пониманию внутренней сути их страсти – познать ее как нечто большее, чем любовь к конкретному человеку, и преодолеть ее ограниченность только чувственным стремлением. Так каждое из трех решений Филлиды является ступенью к постижению последней тайны ее любви.
Первое решение жизнерадостной и беззаботной Филлиды - покончить жизнь самоубийством. Поначалу это решение выглядит как спонтанная реак- ция на холодность возлюбленного. Однако в пятой главе мы читаем ее своего рода лирический дневник – стихи или песни, в которых она выражает или находит свои переживания в поэтических формах, рождающихся в тысячелетиях жизни искусства. Первое стихотворение представляет жалобу одинокой сиротки, в которой последовательно перечисляется то, что любит сиротка – покрывало, белого голубя, нянюшку, сад, спускающийся к реке, в верхах которой живет ее друг, но она не может послать ему цветок, – лишь поклон с гребель-щиками. Любовь Филлиды к предметам окружающего мира – это разные формы одной любви, наиболее сильно проявляющейся в любви к недоступному другу. Второе стихотворение – о том, что нянюшка заметила, как Филлида ничего не видит вокруг себя, нежно целует пестрого голубя и ночью шепчет имя Панкратия. Вся любовь девушки сконцентрировалась на не отвечающем на ее чувства бессердечном Панкратии, – все стало теперь им одним. Третье стихотворение – вопрос к подругам – «признаться ли еще раз» или «броситься в быструю речку»; при этом, первое – самое трудное: «краснеть и запинаться» [Кузмин 1910, 123]. Четвертое – обращение к «гордому», «прекрасному», «счастливому» Панкратию, перечисляющее его действия: – «Ты пойдешь…, ты будешь гулять…, читать…, играть…, ты вернешься в свой дом, ты уснешь, думая… – а бедной Филлиды уже не будет» [Кузмин 1910, 123]. Филлида видит мир Панкратия уже без нее. В стихотворении это уже интенсивно прочувствованная реальность. Так, кульминацией и осуществлением любовного чувства Филлиды становится ее исчезновение из светлого и радостного мира живых и счастливых, – решение уйти в мир мертвых. Важно, что это решение, принятое до попытки самоубийства, переживается и таким образом осмысливается еще раз, но уже по ту сторону совершенного поступка – с позиций уже «покойницы» [Кузмин 1910, 117], читающей эти стихи и оплакивающей свою судьбу. Как поэт, она воображает, сочиняет свою смерть уже и как реальность. Но сочинение своей смерти совпадает с моделью мифа.
Второе решение – сочинить «обманную повесть об ее будто бы состоявшейся уже смерти» [Кузмин 1910, 115] и написать прощальное письмо для Панкратия, чтобы ее смерть омрачила его счастье, заставило его почувствовать свою вину и пробудить в нем, на лице которого всегда налет скуки, чувства. Любовную записку должно заменить посмертное письмо. Однако в тексте нет прямых указаний на желание Филлиды вернуться в мир живых; возможность вернуться домой отвергается: «…да ни за что на свете! Тогда все узнают, что я жива, ты забываешь, что я – покойница. И Филлида громко засмеялась, живостью глаз и щек делая еще более смешными шутливые выдумки» [Кузмин 1910, 117]. «Живая покойница» – как бы веселая шутка. Но здесь, как и в первом случае, любовь парадоксально не связывается ею с реальной жизнью – в тексте новеллы ни слова не говорится о каких-либо ее планах и мечтах о встрече с возлюбленным, тем более, о браке. Ее цель только в том, чтобы Панкратий ее полюбил.
Третье решение принимается после того, как она узнала, что Панкратий, прочитавший элегии Филлиды, ее полюбил и хочет свидания с ее тенью. Вместо того чтобы теперь раскрыть свой обман, она исходит из того, что Панкра-тий хочет встретиться с ней мертвой: ведь он полюбил покойницу. Ее пугает и профанация магического обряда, и погребальные одежды, которые на нее наденут, и дым от серы, который сделает мертвенным ее образ. Она жива, но считает себя уже мертвой, – и потому, что она своим первым решением уйти из жизни, а затем игрой в смерть, и потому, что Панкратий полюбил ее мертвую, уже обречена смерти. Решение сыграть роль мертвой означает для нее, что она согласна со своей несчастной участью: «не живой досталось тебе счастье любви, горькая Филлида» [Кузмин 1910, 127]. Другого варианта счастья любви она не видит – она мыслит себя только мертвой, потому что именно такой он ее полюбил и любит.
Границы между живым и мертвым проходимы для сознания героя, живущего в реальности александрийской культуры: «Мертво то, что мы считаем таковым и наоборот» [Кузмин 1910, 124–125], – говорит вслед за темным рыбаком ритор Панкратий, но так понимает теперь границы жизни и смерти и Филлида. Тяжелое, но неизбежное для Филлиды решение умереть не предполагает страха смерти. Жизнь и смерть в александрийско-египетском «мире бы-тийственной гармонии», воспетой в «Александрийских песнях» [Богомолов, Малмстад 1995, 106] близки друг другу, они всегда рядом, как в «Комедии о Евдокии из Гелиополя, или Обращенной куртизанке»: «Целуйте хрупкость милой жизни! / Сплетайтесь в легкий хоровод! / Весенний пир подобен тризне; / Ясна поверхность глуби вод» [Кузмин 1989, 213]. В «Александрийских песнях» читаем: «Люди родятся затем, / чтоб расстаться с милою жизнью / и чтоб от них родились другие для смерти». [Кузмин 1999, 121]), и за словами «горькой Филлиды» следует примиряющая картина природы, в которую вписана и смерть Филлиды: «но мечты о любящем теперь Панкратии снова быстро вернули смех на алые губы веселой и верной Филлиды» [Кузмин 1910, 127].
Филлида не может подняться до спасительного гностического знания, но она доходит до полного осознания своей судьбы, своей задачи – и совершает принадлежащий «последней логике» ее любви шаг – познание чувственной любви и одновременно ее преодоление в любви мертвой. Нельзя не заметить, что чувственное начало в ее любви уже не играет ведущей роли – она решила быть такой, какой он ее полюбил – мертвой. Такой и предстает она перед ним: «Ее глаза были закрыты, щеки бледны, губы сжаты, сложенные на груди руки в повязках давали особое сходство с покойницей» [Кузмин 1910, 128]. Она изображает себя покойницей, входит в эту роль, чтобы быть любимой им, но ее задача и в том, чтобы отдаться ему действительно мертвой: когда он подтвердил, что любит ее мертвую, ей этого оказалось мало. Она продолжает испытывать его, говоря, что ревнует его к живой Филлиде, которую он любил, а мертвую он только терпит. Только тогда, когда он, плача, жалуется, что она его не любит, она горячими поцелуями убеждает его в ее любви, отдается ему именно такой, какой она для него должна быть – окончательно мертвой. Таким образом, Филлида сотворяет себя подлинно мертвой – уже не в словах, а в чувственно, как это может сделать художник: «смотрите: трехнедельное тление на ее челе! о! о!» [Кузмин 1910, 130], – в ужасе шепчет Панкратий. Любовь Филлиды позволяет ей овладеть своей физической природой, преодолеть власть тела. Это не просто движение к полноте гностического знания, это уже органическое следование заветам гностической мудрости, говорящей о том, что спасение – в преодолении чувственности, власти тела.
Решение Панкратия – философа, знающего учение Филона Александрийского, – вызвать тень Филлиды также связано с познанием любви, которое последовательно ведет его за границы обычной для него чувственности. Особую роль и здесь играют свитки со стихами. Кузмин создает поле возможностей пересечения и наложения друг на друга различных источников поэтического творчества. Передача им Нектанебу «Элегий Филлиды», указывает на то, что Панкратий их читал, мог собрать их в сборник, – те из них, которые она сама ему присылала (в текст рассказа включено указание на то, что он знает ее почерк), и другие, которые издавна ходили в списках, приписанные Филлиде – мифологическому персонажу, в том числе, конечно, и «письмо Филлиды» Овидия. Потрясенный смертью Филлиды, непрестанно думая о ней, переживая свою вину и вживаясь в ее боль, он заново сочиняет элегии, ставя на место Филлиды как персонажа мифа Филлиду – свою возлюбленную, дочь Палемо-на, вписывая в миф имя ее отца и свое имя. В этом процессе его любовь снова воспламенилась и теперь, войдя в творческий процесс и в произведение искусства, сделала и его персонажем мифа о Филлиде и истории несчастной дочери Палемона. Однако теперь Филлида уже не только Филлида мифа, а на месте участников Троянской войны Демофона и Акамаса теперь Панкратий-ритор из Александрии, поэт, может быть, гностик. Действуя в рамках мифа, герои одновременно пересотворяют миф, наполняя поступки новым содержанием, обусловленным личным решением, внося в миф новые ценности.
Демофон вернулся к своей Филлиде, но она была уже мертва, он обнимал и целовал дерево на ее могиле – обнимая, таким образом, ее мертвую. Ака-мас – другой вариант того же мифа – не вернулся и погиб: так в мифе мертвая Филлида отомстила неверному возлюбленному. Филлида Кузмина не думает больше о наказании и не мстит, а прощает. Страстно влюбленный теперь в Филлиду Панкратий, вызвав ее тень, первым делом просит у нее прощенья. Филлида ссылается на волю его судьбы – на миф – «ты не мог иначе поступать, как ты поступал» [Кузмин 1910, 128]. Тем не менее она его прощает и отдается ему ценой своей жизни, тем самым открывая ему истинную суть своей любви. Можно считать, что таким образом она спасает его своей любовью, освобождая его от власти зла.
В материал мифа включаются не по мифу мотивированные личные, принимаемые из чувства любви решения героев. Они органично становятся ступенями самопознания человека и связываются писателем с интуитивным осознанием опыта многовекового поэтического осмысления мифа, аккумулированного Александрией как пространством культуры прошлого и будущего. Миф и предание у Кузмина хранят старые ценности, но в них творятся и накапливаются новые смыслы, не отрицающие и не разрушающие, но существенно обогащающие традиционные. Есть основания толковать эту воплощенную поэтом органическую причастность отдельной личности большому миру искусства как творческую энергию, синтезирующую жизненные и духовные ценности прошлого и будущего – как тот «человека организующий элемент», о котором писал Михаил Кузмин.