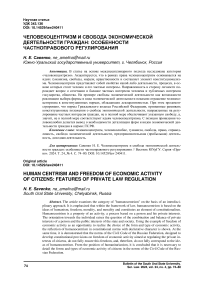Человекоцентризм и свобода экономической деятельности граждан: особенности частноправового регулирования
Автор: Савенко Н.Е.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Частно-правовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 4 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе междисциплинарного подхода исследована категория «человекоцентризм». Акцентируется, что в рамках права человекоцентризм основывается на идеях гуманизма, свободы, морали, нравственности и составляет элемент конституционализма. Человекоцентризм представляет собой свойство какой-либо деятельности, процесса, в основе которых стоит человек и его частные интересы. Направленность в сторону личности порождает вопрос о сочетании и балансе частных интересов человека и публичных интересов государства, общества. На примере свободы экономической деятельности как возможности реализации выбора формы и вида экономической деятельности показано отражение человекоцентризма в конституционных нормах, обладающих декларативностью. При этом продемонстрировано, что нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, призванные развивать конституционные положения о свободе экономической деятельности, направленные на регулирование частных интересов граждан, не в полной мере обеспечивают указанную свободу, а, значит, не в полной мере соответствуют идеям человекоцентризма. С позиции проявления человеколюбия делается вывод о необходимости детализации форм и видов экономической деятельности граждан в нормах ГК РФ.
Человекоцентризм, человеколюбие, гуманизм, свобода, право, справедливость, свобода экономической деятельности, предпринимательская (прибыльная) деятельность, доходная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/147247601
IDR: 147247601 | УДК: 343.136 | DOI: 10.14529/law240411
Текст научной статьи Человекоцентризм и свобода экономической деятельности граждан: особенности частноправового регулирования
«Сущность закона – человеколюбие» (Уильям Шекспир) «Свобода – это право делать все, что разрешено законом» (Шарль Луи Монтескье)
Человекоцентризм (человекоцентрично-сть) (от англ. – human-centricity) является многомерной категорией, которая раскрывается через понятие «человеколюбие». Человеколюбие – это любовь к людям, гуманность [13, с. 867]; действия, направленные на благо других людей; человечность.
Человекоцентризму присущи гуманизм, свобода, мораль, ценности, нравственность, право и справедливость. Человек – часть социума, следовательно, социальная сущность человека выражается в его потребностях, мотивации, ценностях. Исследования человеко-центризма сосредоточены в основном с точки зрения социогуманитарных наук как социального явления. Так, например, о человекоцен-тризме в сфере политологии указывается, что «человекоцентризм берет свое начало в системе образования, которая должна быть подчинена формированию личности, способной к самоорганизации, генерированию собственного знания, что и предопределяет качество интеллектуальной автономности» [4, с. 76]. Ученые в сфере образования отмечают, что «человекоцентризм предполагает единство и сбалансированность личностно ориентированного и социально ориентированного подхода, личных и общественных ценностей» [10, с. 21]. С философской позиции отмечается, что «парадигма человекоцентризма» основывается на «концепции свободы и ее соотношении с нравственностью и правом» [1, с. 100]. Каждая отрасль научных знаний отражает свой угол зрения на человекоцен-тризм. В целом можно утверждать, что чело-векоцентризм – это свойство какой-либо деятельности, процесса, в основе и центре которых стоят человек и его частные интересы.
Относительно человекоцентризма в праве следует отметить, что прежде всего человеко-центризм исследуется учеными-правоведами из сферы теории права и конституционного права. При этом в их исследованиях не формулируется дефиниция человекоцентризма, но раскрывается его сущность. Например, В. М. Шафиров указывает, что право с точки зрения человекоцентричности заключается в ценности человеческой жизни и бытия человека [17, с. 199]. Также Р. А. Клычев, говоря о Конституции Российской Федерации, акцентирует внимание на том, что «декларирование приоритета человека, его прав и свобод как высшей ценности созвучно с идеями христианства о гуманизме и включает требование о том, что человеколюбие и справедливость должны охватывать каждую отрасль права» [8]. Более того, концептуальные положения Конституции РФ развиваются в заданном ключе. Свидетельством тому являются внесенные Законом РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» дополнения в Конституцию РФ о том, что в России создаются условия для «благосостояния граждан, взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность» (ст. 75.1).
В этой связи человекоцентризм в праве рассматривается как элемент или свойство конституционализма, который представляет собой «единство гуманистических идей и принципов построения государства и практики их реализации» [9, с. 199]. В данном случае на поверхности возникает вопрос о сочетании и балансе частных интересов человека и публичных интересов государства, общества.
С позиции публичных отраслей права вносят свой вклад в исследование человеко-центризма ученые из уголовно-процессуальной сферы. Например, З. З. Зинатуллин и Ф. Ф. Зарипов, раскрывая гуманистическое и человеколюбивое содержание назначения уголовного процесса, утверждают, что нормы права об упрощенном уголовном процессе
«не согласуются с конституционными установками о защите прав и свобод человека и гражданина» [7, с. 56].
С позиции частноправовых дисциплин исследований интересующего нас явления немного. Полагаем, что этому есть объяснение. Частное право, например, гражданское право, в силу своей исторической обусловленности, которую можно проследить в трудах классиков цивилистики (Д. И. Мейера [12], И. А. Покровского [14], Г. Ф. Шершеневича [18]), имманентно направлено на человека и гражданина с его частными интересами.
Так, Д. И. Крымский, исследуя человеко-центризм в гражданском процессуальном праве, отмечает, что технологическое развитие нашего общества повлекло «поворот к фигуре «пользователя судебной системы» [11, с. 176]. Действительно, отправление правосудия подверглось тенденциям цифровизации, и можно утверждать, что перевод процессуальных действий в цифровой формат направлен во благо граждан, призван упрощать процедуру общения личности с судебной властью. В этом плане цифровые тенденции демонстрируют проявление человекоцентризма. Однако, с другой стороны, технологическое развитие обезличивает человека. Поэтому в сфере гражданского процесса человекоцентризм «способен выступить ответом на вызовы обезличенного технократического общества» [11].
Предваряя речь о проявлении человеко-центризма в отношении обеспечения свободы экономической деятельности граждан, поясним основные моменты касательно категории свободы.
Свобода в общем понимании трактуется как «возможность проявления своей воли; отсутствие стеснений и ограничений для деятельности всего общества или его членов» [13, с. 693]. Относительно интерпретаций свободы Е. П. Губин указывает, что «какое бы определение мы ни выбрали, к какой бы позиции ни присоединились, все они едины в главном: без свободы деятельности невозможно постичь желаемых результатов и удовлетворять различные потребности личности и общества, в частности в сфере экономики. Свобода – это всегда возможность выбора одного из многих вариантов поведения в конкретных условиях…» [15, с. 68].
Свобода также присуща человекоцен-тризму. Подразумевается, что законодатель, действуя во благо граждан, обеспечивает им свободу действий в определенных рамках. По Конституции РФ права и свободы граждан являются высшей ценностью (ст. 2). К числу прав и свобод гражданина отнесены различные социально-экономические права, составляющие правовой статус личности. В этой совокупности прав находятся и экономические права: свобода экономической деятельности (ст. 8), право каждого на использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной экономической деятельности (ст. 34), право на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии (ст. 37).
В настоящем исследовании наше внимание сосредоточено на свободе экономической деятельности, которую понимают как конституционный принцип и конституционную ценность [2, 16], экономическое право граждан и право на экономическую деятельность, элемент правового статуса личности [5, 6]. С позиции человеколюбия полагаем, что свобода экономической деятельности – это возможность выбора формы и вида экономической деятельности.
Конституция РФ декларирует свободу экономической деятельности, указывая в ст. 34 о праве каждого на использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной экономической деятельности. Иными словами, Конституция РФ с позиций человеколюбия декларирует свободу выбора вида (формы) экономической деятельности, но не приводит детализации ее видов (форм) и упоминает только о предпринимательской деятельности.
В развитие конституционных положений приняты нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Иерархическое первенство ГК РФ после Конституции РФ очевидно. Так, В. Ф. Яковлев называл его «экономической конституцией» [19, с. 153]. М. И. Брагинский указывает, что ГК РФ «занимает положение «первого среди равных» – primus inter pares» [3, с. 302]. При масштабном сравнении социалистического (советского) периода в России, при котором частного предпринимательства легально не существовало, с существующим положением дел относительно выбора форм и видов эко номической деятельности следует отметить, что действующие нормы права в большей степени отражают идеи человеколюбия, чем нормы советского права. Однако при детальном исследовании частноправовых норм ГК РФ, очевидно, что они не в полной мере отражают идеи человекоцентризма в части обеспечения свободы экономической деятельности граждан. Сказанное подтверждается следующим.
Как известно, в предмет гражданского законодательства входят отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием (ст. 2 ГК РФ). Кодекс ведет речь только о предпринимательской деятельности и не использует категорию «экономическая деятельность». Представляется, что законодатель, возрождая частное право посредством принятия в 1994 году нового ГК РФ, сузил правовой режим свободной деятельности субъектов до предпринимательской деятельности, целью которой является получение прибыли. В ГК РФ ничего не сказано о доходной деятельности, представляющей собой вид экономической деятельности.
Согласно ст. 2, 23 ГК РФ для граждан установлен только режим индивидуального предпринимательства (с государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя или без таковой в отношении некоторых видов деятельности, которые до настоящего времени в законодательстве не определены (так называемая самозанятость)). С одной стороны, законодатель расширяет возможности реализации такого экономического права граждан, как занятие предпринимательской деятельностью, а, с другой стороны, сужает конституционную свободу экономической деятельности. Это объясняется тем, что внесение вышеуказанных изменений в ст. 2 и 23 ГК РФ было продиктовано идеей по выведению из налоговой тени граждан, которые не платят налоги с получаемых доходов от своей самостоятельной экономической деятельности (самозанятые граждане). Их деятельность является доходной, а не прибыльной, так как не в полной мере обладает легальными признаками предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК РФ). При этом доходная деятельность не отражена буквально в ГК РФ. Полагаем, что в соотношении частных и публичных интересов наблюдается пе- рекос в сторону публичных фискальных интересов.
Кроме того, неурегулированность в ГК РФ доходной деятельности граждан, отличной от прибыльной (предпринимательской) деятельности, влечет за собой неурегулированность положения таких лиц в иных нормах права. Например, нет ясности в нормах Закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о ЗПП) в отношении субъектного состава продавцов, производителей, исполнителей. В их числе нет самозанятых лиц, осуществляющих доходную деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Следовательно, к самозанятым лицам не применимы нормы названного закона о повышенной ответственности перед потребителями (ст. 23, 28 Закона о ЗПП). С одной стороны, законодатель не возлагает на самозанятых лиц повышенных требований, а, с другой стороны, такое положение дел вне рамок человеколюбия по отношению к гражданам-потребителям.
Также относительно самозанятых граждан, осуществляющих доходную деятельность, не установлен четкий перечень видов экономической деятельности. С одной стороны, это свидетельствует о расширении для них свободы экономической деятельности. Однако, с другой – данное обстоятельство ведет к правовой неопределенности их статуса, что не отражает идеи человеколюбия.
И самое главное, что законодатель, исходя из положений ст. 2, 23 ГК РФ, искусственно причислив самозанятых лиц к индивидуальным предпринимателям, автоматически установил для самозанятых лиц режим «без-виновной ответственности» по п. 3 ст. 401 ГК РФ. Очевидно, что это не гуманно по отношению к самозанятым лицам, осуществляющим доходную деятельность без статуса индивидуального предпринимателя с ограниченными материальными и финансовыми ресурсами и в целях удовлетворения жизненных потребностей себя и своей семьи. В этой связи с точки зрения человекоцентризма есть необходимость в проведении законодательной дифференциации доходной деятельности и прибыльной (предпринимательской). Данная мера видится справедливой и будет направлена во благо самозанятых граждан.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Человекоцентризм – это свойство какой-либо деятельности, процесса, в основе и центре которых стоит человек с его частными интересами. В праве человекоцентризм рассматривается как элемент или свойство конституционализма, основанного на гуманизме. Человекоцентризму также присуща свобода. По Конституции РФ права и свободы граждан являются высшей ценностью (ст. 2). С позиции человеколюбия свобода экономической деятельности граждан – это возможность выбора формы и вида экономической деятельности с определенными справедливыми условиями.
Конституция РФ с позиций человеколюбия декларирует свободу выбора экономиче- ской деятельности, но не приводит детализации ее видов (форм) и упоминает только о предпринимательской деятельности. ГК РФ, призванный развивать конституционные положения, с одной стороны, сужает свободу экономической деятельности, устанавливая только режим индивидуального предпринимательства для граждан. С другой стороны, расширяет эту свободу, предоставляя гражданам право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Все это в совокупности позволяет утверждать, что законодательство об экономической деятельности граждан не в полной мере отражает идеи человекоцентризма.
Список литературы Человекоцентризм и свобода экономической деятельности граждан: особенности частноправового регулирования
- Артемов В. М. Нравственное измерение свободы и права в контексте парадигмы человеко-центризма // Lex Russica (Русский закон). 2015. Т. 101. № 4. С. 99-103.
- Безрукова О. В., Романовская О. В. Конституционные принципы регулирования экономических отношений: монография. М.: Проспект, 2019. 192 с.
- Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 2001. Кн. 1. 848 с.
- Ваславский Я. И. Трансформация роли государства: от капитало- к человекоцентризму // Теор ия и практика общественного развития. 2023. № 4. С. 73-77.
- Демиева А. Г. Гражданский кодекс как основа активной экономической деятельности // Ex jure. 2020. № 2. С. 43-52.
- Ежегодник Конституционной Экономики. 2019 / отв. ред. А. А. Ливеровский. М.: ЛУМ, 2019.528 с.
- Зинатуллин З. З., Зарипов Ф. Ф. Человеколюбие и гуманизм - стержневые доминанты уголовно-процессуальной политики государства // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 3. С.56-64.
- Клычев Р. А. Проблемы взаимодействия социал ьных регуляторов общественных отношений и перспективы их конституционализации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 5. С. 14-17.
- Колотова Н. В., Сорокина Е. А., Варламова Н. В. , Васильева Т. А. Конституционализм: национ альное и наднациональное измерения. Всероссийская научная конференция с международным участием к 95-летию со дня рождения В. А. Туманова // Государство и право. 2021. № 12. С. 195-210.
- Кондаков А. М. Устойчивость к будущему. От датацентризма - к человекоцентризму // Образовательная политика. 2021. № 4 (88). С. 20-41.
- Крымский Д. И. Человекоцентризм в гражданском процессуальном праве: возвращение к истокам в условиях вызовов современности // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 4 (51). С. 176-189.
- Мейер Д. И. Избранные труды: в 2 т. М.: Статут, 2019. Т. 1. 848 с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1995. 928 с.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2020. 351 с.
- Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / отв. ред. Е. П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 664 с.
- Федоренко В. Н. Свобода экономической деятел ьности в Российской Федерации: понятие, пределы и ограничения // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 6 (131). С. 70-77.
- Шафиров В. М. Право в человеческом измерении // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2004. № 3. С. 198-213.
- Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914-1915 гг.): в 2 т. М.: Статут, 2021. Т. 2. 894 с.
- Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М.: Статут, 2022. 252 с.