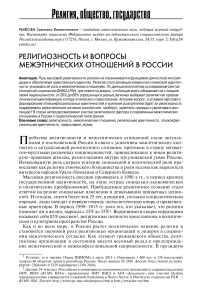Чемпионат мира по футболу - 2018 как эффективный инструмент "мягкой силы"
Автор: Устюхова Наталья Николаевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 9, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы влияния прошедшего в 2018 г. в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу на имидж страны за рубежом; обозначены плюсы проведения мундиаля для международного сотрудничества России. Автор приходит к выводу, что Чемпионат мира - 2018 стал эффективным инструментом «мягкой силы» российской внешней политики и отмечает слабость режима санкций, продемонстрированную в ходе подготовки и проведения мундиаля.
Чемпионат мира, "мягкая сила", имидж, международные отношения, "футбольная дипломатия", Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170171311
IDR: 170171311 | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6155
Текст научной статьи Чемпионат мира по футболу - 2018 как эффективный инструмент "мягкой силы"
П роблемы религиозности и межэтнических отношений стали актуальными в постсоветской России в связи с усилением межэтнических контактов и актуализацией религиозного сознания, притоком в страну мигрантов-мусульман различных национальностей, принадлежащих к иным религиозно-правовым школам, разногласиями внутри мусульманской уммы России. Немаловажную роль сыграло усиление социальной и политической роли православия как религии этнического большинства и роли ислама как выразителя интересов народов Урало-Поволжья и Северного Кавказа.
Массовая религиозность россиян проявилась в 1990-х гг., в период кризиса государственной идентичности, на этапе острых социально-экономических и политических преобразований. Пробужденное религиозное сознание стало ответом на резкие социальные изменения и девальвацию привычных ценностей. И сегодня, спустя более чем 25 лет, в религии, согласно социологическим опросам, люди находят в первую очередь психологическую опору и нравственные ориентиры. В период 1990–2015 гг. доля тех, кто указывает, что религия помогает им в жизни, выросла с 23% до 55%1. Верующими и скорее верующими называют себя 85% россиян2, религиозные ценности представлены в политическом и культурном пространстве России.
Как и во всем мире, в России растет политическое влияние религии и становится значимой роль религиозных организаций и лидеров в сохранении межэтнического согласия. Как элемент гражданского общества, религиозные организации в состоянии внести весомый вклад в предупреждение межэтнической и межконфессиональной напряженности. В президиум
Межрелигиозного совета РФ входят главы 4 традиционных религий России, а в числе его приоритетных целей указывается противодействие использованию религиозных чувств в разжигании межэтнических конфликтов. В российском массовом сознании соединяются уважение к традиционным религиям и не противоречащее этому стремление к защите светского характера государства. Согласно данным ВЦИОМа, 70% россиян доверяют РПЦ1, но лишь 10% одобрили бы восстановление государственной религии на законодательном уровне (13% среди православных и 19% среди последователей других религий). Большинство российских граждан (64%)2 поддерживают светский характер государства, закрепленный в Конституции РФ, на государственном уровне признается историческая роль религий России в сохранении традиционных ценностей и нравственного единства.
Между тем роль массовой религиозности россиян не ограничивается только функциями ценностной консолидации. Религия стала активным элементом этнического самосознания (идентичности), усилилась ее роль в межэтнических отношениях. Критерий «религия» при формировании этнической идентичности (в процессах внутриэтнической идентификации и межгрупповой дифференциации) не обладает большой значимостью в мирное время, но у нее велик потенциал этногрупповой мобилизации в периоды межэтнической напряженности. По данным многолетних исследований Центра этнической социологии ФНИСЦ РАН, при ответе на вопрос, что больше всего объединяет их с людьми своей национальности, от 20% до 60% опрошенных в разных регионах3 выбирают религию как признак этнической идентификации и опору этнического самосознания.
Рост массовой религиозности на фоне сохранения этнических культур и стоящих перед государством и обществом задач обеспечения межэтнического согласия и гражданского мира ставит вопрос: не является ли современная российская религиозность тормозом на пути движения страны вперед? В исследованиях Р. Инглхарта и К. Вельцеля утверждается, что модернизация сопровождается развитием ценностей самовыражения и приводит к секуляризации, падению авторитета традиционных религий [Инглхарт, Вельцель 2011]. Однако Хабермас обращает внимание на усиление религиозного фактора внутри современных секулярных государств и призывает учитывать голос религиозно ориентированных граждан, которых государство не должно «отчуждать… от процесса принятия политических решений, даже тогда, когда они приводят религиозные основания» [Хабермас 2011: 125].
Публичные дискуссии о роли традиционных российских религий (прежде всего, православия и ислама), их участии в сохранении ценностей, а также обсуждение проблем религиозного радикализма и мотиваций религиозного террора (в т.ч. вооруженной борьбы за «чистоту веры») побуждают человека к самоопределению в категориях этничности и веры. В этом случае этническая принадлежность и религиозность как неотъемлемый элемент культурной традиции позиционируются в социальных взаимоотношениях и социальных статусах вместе, как недифференцируемая категория, образуя этноконфессиональную идентичность россиян. Введение в школах учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию и закреплению религиозной и этноконфессиональной идентичности уже на уровне первичной социализации.
Этноконфессиональные процессы, понимаемые как взаимовлияние религии и этничности в социальных отношениях, стали предметом исследования российских ученых сравнительно недавно [Религия в самосознании… 2008], в конце 1990-х гг., когда этничность и религиозность заявили о себе как о серьезных факторах социальной динамики [Авксентьев, Шульга 2014]. Исследователи справедливо отмечают, что этноконфессиональные факторы вступают в силу в том случае, когда существует угроза ущемления прав какой-либо национальности, ущерба ее культурному и традиционному наследию [Кублицкая 2013].
В настоящее время социальный потенциал религиозности в формировании и поддержании межэтнических отношений недостаточно изучен. Актуален вопрос: в условиях массового формирования этноконфессиональных идентичностей и усиления роли религии в поликультурном российском обществе будет ли религиозность поддерживать межэтническое согласие или, наоборот, укреплять границы и увеличивать дистанцию? Радикализация религиозного сознания может выражаться в нетерпимости к представителям иных конфессий или во внутриконфессиональных противоборствах, а также в негативном отношении к представителям определенных национальностей (в силу рутинного соединения этнической и религиозной принадлежности). В силу присутствия религиозной составляющей этноконфессиональная идентичность формируется в сильной кооперации с ценностями и поэтому обладает большим потенциалом социальной регуляции в сфере межэтнических отношений.
Риск вовлечения религии в процессы межэтнической напряженности представляет реальную опасность для социальной стабильности в поликультурных и богатых ресурсами областях и республиках России. Межэтническую напряженность могут провоцировать общественно-политические события, апеллирующие к исторической памяти, восприятие неравных возможностей социального продвижения людей различных национальностей, неравенство в обеспечении ресурсами и перспектив сохранения и развития родной культуры. В случаях ущемления прав той или иной национальности религия может выступать символом внутригрупповой солидарности и питать мотивы восстановления справедливости.
С социологической точки зрения участие религиозного фактора в современных межнациональных (межэтнических) отношениях в России может выражаться в нескольких направлениях: 1) в установках православного большинства по отношению к другим, неправославным конфессиям, прежде всего к исламу и представляющим его этническим сообществам (народы Урало-Поволжья и Кавказа, приезжие из Средней Азии), и в отношении последних к православию и русским; 2) в рисках формирования «низового» религиозного радикализма и фундаментализма (главным образом со стороны православных и мусульман), который может принимать форму взаимной этнической ксенофобии; 3) во влиянии религиозных организаций и духовных лидеров на межэтнические отношения, вовлечении религиозной идентичности в межэтнические конфликты; 4) в межэтнической напряженности, возникающей среди мусульман, принадлежащих к различным религиозно-правовым школам (или отказывающихся от принадлежности); 5) в рисках слияния религии этнического большинства с государством, полиэтническим по своим этнокультурным характеристикам (идеологема современной России как православного государства), и др.
Согласно декларации ЮНЕСКО1, межэтническая толерантность в соответствии с понятием прав человека трактуется как уважение к окружающим, умение сотрудничать с людьми независимо от их этнической и религиозной принадлежности, устойчивость к культурному разнообразию и готовность к мирному урегулированию возникающих конфликтов. В России в условиях этнического и религиозного разнообразия она может быть дополнена принципом «сосуществования различных этноконфессиональных традиций» [Толерантность… 2011: 241].
Доктринальной основой взаимодействия православия и ислама, с которыми себя соотносит большинство населения России, и ресурсом укрепления межнационального согласия являются Основы социальной концепции Русской православной церкви (приняты в 2000 г.) и Основные положения социальной программы российских мусульман (приняты в 2001 г.). Стремление к ненасильственному разрешению межнациональных противоречий, взаимное уважение и диалог, сотрудничество в социальной сфере, любовь к России – эти идеологемы мирного сосуществования двух религиозных традиций широко представлены в данных документах. Согласно социологическим исследованиям, в массовом сознании россиян сложился позитивный образ мусульман. По данным Левада-Центра, 51% опрошенных положительно воспринимают мусульман (18% – «очень положительно», 31% – «в какой-то мере положительно») и еще 31% – нейтрально («ни положительно, ни отрицательно»). Суммарная доля россиян, воспринимающих мусульман в положительном или нейтральном ключе, составляет 82%. О своем негативном отношении упомянули 14% (4% – «очень отрицательно» и 10% – «в какой-то мере отрицательно»)2. Для россиян характерна солидарность с мусульманами в стремлении к защите святынь: 72% опрошенных согласны с мнением, что «публикации карикатур на пророка Мухаммеда недопустимы, поскольку они оскорбляют мусульман»3.
Вместе с тем замеры уровня религиозности и межконфессиональных отношений по общероссийской выборке лишь в некоторой степени позволяют оценить участие религиозного фактора в формировании позитивных или негативных межэтнических отношений. Для реальной оценки роли религиозности в процессах формирования межэтнического согласия или напряженности необходимо исследование этих феноменов на локальном уровне и в региональном разнообразии.
Список литературы Чемпионат мира по футболу - 2018 как эффективный инструмент "мягкой силы"
- Бастраков К.С., Устюхова Н.Н., Тимофеев Г.А. 2018. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 г.: политический аспект. -Власть. Т. 26. № 6. С. 176-178
- Веселова А.С. 2016. Советская футбольная дипломатия 1920-1940-х годов. -Университетский научный журнал. № 18. С. 120-127
- Громыко А.А. 2014. «Мягкая сила» и сила права: К постановке проблемы. -Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. Т. 6. № 3. С. 3-19
- Евтухова Г.А., Лебедева Т.Е. 2014. Чемпионат мира по футболу 2018 и его влияние индустрию туризма. -Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, эффективность, инновации: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. 24 апреля 2014 г. Нижний Новгород: Мининский ун-т. С. 9-11
- Марголис Н.Ю., Пахомова Е.А., Федотова М.И. 2014. Особенности современной либертарной критики феномена «большого спорта». -Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Сер. Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. № 2. С. 60-65