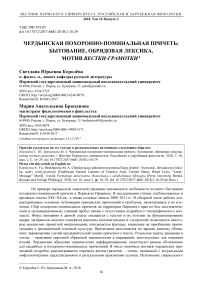Чердынская похоронно-поминальная причеть: бытование, обрядовая лексика, мотив вестки-грамотки
Автор: Королва Светлана Юрьевна, Брюханова Мария Анатольевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
На примере чердынской локальной традиции описываются особенности позднего бытования похоронно-поминальной причети в Пермском Прикамье. В исследовании учтены опубликованные и архивные тексты XIX-XX вв., а также полевые записи 2009-2011 гг. В обзорной части работы охарактеризованы основные публикации прикамских причитаний и проблемы, наметившиеся в их изучении. Сбор похоронно-поминальных причетов на территории Пермского края не был систематическим и целенаправленным, главный пробел связан с отсутствием подробного этнографического контекста. Фокус внимания в данной статье смещается с текстов и их поэтики на функционирование жанра: материалом анализа становятся рассказы исполнительниц и слушателей; выявляются некоторые механизмы причетной импровизации; описываются факторы, влияющие на приобщение причитальщиц к традиционной плачевой культуре. Причитания исполняются по заранее данному обещанию; зафиксирован случай предварительной записи причетного текста. Отдельная задача, решаемая в статье, - выявление народной обрядовой терминологии и выражений, используемых для описания плачей. Чердынская обрядовая терминология дифференцирована, существуют разные обозначения для свадебных и похоронно-поминальных причитаний. В числе типичных мотивов чердынских причитаний подробно рассматривается передача вестки-грамотки - мотив, связанный с актуальными мифологическими представлениями и ритуальными практиками сельчан. Исполнение специального похоронного причета воспринимается носителями традиции как реальный акт «иномирной» коммуникации. Связанное с ним выражение «вестку-грамотку передать» является не только обозначением причетного мотива, но и местным обрядовым термином.
Обрядовая лирика, похоронно-поминальные причитания, плач, причет, мотив, фольклорная формула, народная терминология, обрядовая лексика, русская мифоритуальная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147226900
IDR: 147226900 | УДК: 398+393.05 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-16-29
Текст научной статьи Чердынская похоронно-поминальная причеть: бытование, обрядовая лексика, мотив вестки-грамотки
Для фольклористов, занимающихся изучением русской плачевой культуры, наиболее привлекательной остается традиция Русского Севера, давшая самые развернутые, эстетически сложные образцы причетного жанра и в свое время лучше всего зафиксированная (см.: [Причитанья Северного края 1997; Русские плачи Карелии 1940; Ефименкова 1980] и др.). В последние полтора-два десятилетия появились, однако, репрезентативные собрания похоронно-поминальных причитаний, представляющие традиции Смоленщины, Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока [Смоленский муз.-этногр. сборник 2003; Похоронно-помин. традиции на Южном Урале 2008; Русский семейно-обрядовый фольклор 2002] и других регионов. Значительное место в таких сборниках занимают поздние записи, выполненные во второй половине XX – начале XXI в. Несмотря на фрагментарность многих текстов, они позволяют установить набор типичных для этих традиций формул и мотивов, а также обнаружить, как на их «языке» описываются новые реалии (и какие именно). Иногда стадия угасания традиции характеризуется любопытными новообразованиями, связанными не столько с текстами причитаний, сколько с новым контекстом их бытования. Возможно, поэтому интерес специалистов к похоронно-поминальной причети продолжает сохраняться.
Материалы Пермского Прикамья в обобщающих исследованиях используются крайне мало. Отчасти это связано с тем, что прикамскую причетную традицию, по всей видимости, нельзя отнести к числу тех, где представлены развернутые, яркие, самобытные варианты реализации жанра. Но без нее представление о многообразии региональных форм русских похоронно-поминальных причитаний не будет полным. В нашей статье ставятся задачи охарактеризовать основные источники, в которых зафиксированы прикамские причитания, а затем на примере одной локальной традиции – чердынской – описать бытование этого жанра в Северном Прикамье во второй половине XX – начале XXI в. Особое внимание будет уделено типичному для чердын-ской причети мотиву – передаче вестки-грамот-ки , который тесно связан с актуальными мифологическими представлениями и ритуальными практиками носителей традиции.
Из истории собирания и изучения прикамских похоронно-поминальных причитаний
Записи причетов, исполнявшихся на территории Пермской губернии, известны с середины XIX в.; по-видимому, все они совершались «по случаю», задача целенаправленного сбора не ставилась. Такова небольшая подборка кунгурских причитаний по умершему Е. Будрина2, вышедшая в составе «Пермского сборника» [Буд-рин 1860: 128–131]; в 1918 г. оханские причитания опубликовал фольклорист и краевед В. Серебренников [Серебренников 1918]. Три причетных текста (что непропорционально мало по сравнению с другими жанрами) были включены в сборник «Народные песни Пермского края», подготовленный по материалам студенческой практики и изданный специалистами Пермского государственного университета [Народные песни Пермского края 1966: 229–231]. Известно, что в 1950–70-х гг. записи причитаний в Северном Прикамье осуществлял пермский фольклорист И. В. Зырянов; тексты, не издававшиеся при жизни собирателя, хранятся в архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН и в последние годы начинают вводиться в научный оборот (см. публикацию двух кудымкарских похоронно-поминальных причитаний с нотацией [Щупак 2013]). Аудиозаписи причетов из Пермской области имеются также в материалах ленинградского филолога и фольклориста И. В. Ефремова; часть из них находится в фольклорном архиве ИРЛИ и вплоть до настоящего времени не опубликована [там же: 306]. В 1990–2000-х гг. сбор причитаний осуществлялся в рамках комплексных политема-тических проектов под руководством лингвиста И. А. Подюкова; эти записи включены в сборники, посвященные традиционной культуре отдельных районов Пермского края – Красновишерского, Чердынского, Усольского, Карагай-ского [Вишерская старина 2002: 52; Подюков 2004: 187–195; Подюков и др. 2004: 155–156; Подюков, Хоробрых 2009: 59–67]. Несколько современных записей чердынских похороннопоминальных причитаний приведены в статье по итогам экспедиций филологического факультета ПГНИУ [Елтышев, Королёва 2012].
В числе локальных причетных традиций Пермского Прикамья особого упоминания за- служивает традиция, бытующая у русских жителей Юрлинского р-на, а также у их соседей – ко-чёвских коми-пермяков. Ее особенность составляет достаточно активное бытование похороннопоминальных причитаний и поминальных духовных стихов, тесно взаимодействующих в структуре обряда (юрлинские материалы см. в книге: [Бахматов и др. 2008: 401–417]; кочёвские записи также опубликованы, см: [Четина, Рогот-нев 2010: 189–223]). Взаимодействие это проявляется не только в очередности исполнения, но и в межжанровом взаимовлиянии (и на вербальном, и на музыкальном уровнях), в результате чего черты одного жанра проявляются в другом. Особенность эта уже отмечалась исследователями [Успенская 2009: 5; Беломестнова 2014], однако само явление, безусловно, нуждается в дальнейшем изучении.
Еще один аспект, обозначенный специалистами, касается способа исполнения причети. На территории Пермского Прикамья бытовали, а кое-где могут быть зафиксированы и сегодня, несколько локальных традиций, которые заметно различаются по мелодике, набору типичных формул и мотивов, степени импровизационно-сти, а также по связанной с ней форме исполнения – индивидуальной или коллективной. По последнему из названных параметров традиции Прикамья оказываются для исследователей особенно ценными: здесь обнаруживаются редкие формы ансамблевого (совместного, группового, или – в терминологии И. В. Зырянова – «многоголосного») исполнения похоронно-поминальных причитаний, точечно зафиксированные на Мезени и Вологодчине [Марченко 1990]. Бытование подобных форм – явления еще мало изученного – в фольклорных традициях Пермского края, генетически тесно связанных с традициями Русского Севера, представляет, по оценке этномузыкологов, огромный интерес3 [Щупак 2013: 299].
Таким образом, для решения встающих перед исследователями задач важным является учет не только как можно большего числа текстов, но и самых разных контекстов (место в обряде, манера исполнения, обрядовая терминология, границы ареалов и т. д.). Знакомство с опубликованными и архивными источниками заставляет, однако, констатировать, что применительно к причитаниям Пермского края контекстуальные сведения представлены довольно лаконично. Своего рода исключение представляет чердынская традиция, подробная информация о которой фиксировалась целенаправленно в экспедициях ПГНИУ 2009–2011 гг. Обратимся к материалам, собранным в разное время на этой территории.
Бытование чердынской похоронно-поминальной причети
Анализ этнографических источников и полевых записей позволяет говорить, что ареал бытования чердынской локальной традиции включает Чердынский и часть современного Красновишерского р-нов Пермского края4. Границы ареала определяются историческими и географическими факторами. Здесь располагался исторический центр Прикамья, русские поселения появились на этой территории в XV–XVI вв. благодаря внутренней миграции населения с Русского Севера. Когда в XVII–XVIII вв. произошло массовое переселение староверов в отдаленные регионы, большое влияние на культуру Северного Прикамья оказало старообрядчество (общины старообрядцев в обоих районах есть и сегодня). Современный Красновишерский р-н раньше входил в состав Чердынского уезда, но поскольку по отношению к бытованию фольклорных явлений административные границы носят условный ха-рактер5, то гораздо важнее, что обе территории соединены прямым речным сообщением (это обстоятельство обычно имело решающее значение для распространения фольклорной традиции). Они расположены в верхнем течении Камы, в междуречье Колвы и одного из камских притоков – Вишеры – и составляют значительную часть северо-восточной этнографической зоны, выделяемой внутри региона.
Отдельно скажем о границах текстового материала. Как и на других территориях, здесь бытовала (и, судя по количеству записей, достаточно широко) специфическая функциональнотематическая группа причитаний – плачи невесты-сироты по родителям. Подобные произведения составляют зону прямого пересечения свадебной и похоронно-поминальной причети: они включают типичные поминальные формулы и мотивы и фактически представляют собой поминовение умерших родных, осуществляемое в ходе свадебного обряда. На взаимодействие двух ритуальных циклов указывал И. В. Зырянов в неопубликованной работе «О взаимосвязях похоронной и свадебной причети» (сер. 1970-х гг.): «В собственной собирательской практике не однажды приходилось убеждаться в том, что в репертуаре отдельных исполнителей похоронные и свадебные причитания имеют много сходного: одинаковую заплачку (или плачевый приступ), совпадающие мотивы и художественные образы, общую ритмико-мелодическую основу стиха», – и далее: «…сами исполнительницы причитаний не видят разницы между поминальным плачем и причитанием невесты-сироты. В них могут совпадать многие мотивы, начиная с зачина и кончая формулами просьбы благословления» [Зыря- нов РО ИРЛИ РАН: л. 31, 42]6. Такие плачевые произведения могут учитываться при анализе образов и мотивов чердынской похороннопоминальной причети7.
Обратимся непосредственно к причитаниям. Одно из самых ранних свидетельств о чердын-ских плачах обнаруживается в этнографическом очерке учителя Н. Корнаухова, опубликованном в 1848 г. в «Отечественных записках». Он замечает, что «при похоронах все ближние родственники умершего непременно должны громко выть и плакать с причетами, хотя бы умерший был старик или старуха, лет семидесяти и более; эти рыдания далеко бывают слышны, когда несут усопшего» [Корнаухов 1848: 57]. Здесь упоминается местная манера исполнения ( громко выть , далеко слышны ) и импровизированный характер причетов. Об аналогичных чертах звучания сообщается и в наших полевых материалах: «… когда у нас зять, у меня у этой дочки, попал в аварию, на похоронах… он из Усть-Уролки был… Матрёна её звали, нет её уже живой, она плакала. На машине везли до Усть-Уролки, всё прокричала, особенно заехали в деревню в Усть-Уролку, она так кричала, наверное, во всей округе было слышно (Она ведь какие-то слова приговаривала, не просто же?) Да. Она не так же кричит, она говорит и плачет » (НАА; список информантов см. в конце статьи).
Особенно ценными представляются рассказы, записанные непосредственно от плакальщиц и дающие взгляд «изнутри традиции». В таких нарративах проявляются, в частности, некоторые механизмы импровизации. Так, мать, потрясенная неожиданной гибелью сына, включает в свой причет упоминание тех деталей, которые бросаются ей в глаза и особенно ее задевают (толстые ботинки на ногах умершего, капли воды на его лице и др.): «Гроб занесли когда, привезли из городу-ту, я бросилась, меня не пускают, а я всё равно прошусь посмотреть. Причитаю – посмотрю мол, какой ты есть. Ведь надёжа моя была, не должен ты бы в этом гробе лежать. Наговариваю – я мол всё тебе наготовила, одежду, обутки. На что же на тебя такие ботинки надели, подошвы толстые, ой, долго тебе придется изнашивать, ну ничё, ты молодой, носи. Увидела у его на бровях крапинки воды, с улицы ведь занесли, я и спрашиваю – обрадовался, что дома, вон сколь ты у меня не был, два года, вот и увиделись…» (пос. Цепёл, Красновишерский р-н [Вишерская старина 2002: 52]).
Интересно и то, какие мотивы причитаний запоминаются присутствующим. Показателен рассказ пожилой жительницы с. Редикор о причете, исполненном в ситуации, когда обычные требования к похоронно-поминальному обряду были вынужденно нарушены. Невестка хоронила свою свекровь, но из-за недостатка средств не смогла приготовить домашнее пиво; видя, как вместо традиционного напитка дочь умершей наливает купленное в магазине вино, женщина начала причитать: «…все вышли из-за стола, она села и плакала: “Не осуди меня, я не наварила пива пенного, не набрала вина зелёного, у меня нету ладушка”, – значит, мужика. Вот это она приска-зывала, Лиза. <…> Сына у неё [свекрови] убили на фронте, а сноха Лиза с ней жила, она вот присказывала. Она ни пиво, ничего не варила, только квас сделала. А дочь приезжала из Березников Анюта, она вот красное вино набрала. Красное вино, и вот этим всем кержакам подавала по сто грамм, по рюмке: “Мама тоже выпивала, давайте все выпейте по рюмочке, помяните маму”. <…> (А дочь Анна сама не припла-кивала?) Нет, ничё она не понимает. (Сноха, получается, знала?) Да, сноха плакала, она знает. Она старинный человек, кержачка была тоже» (ПНВ). Попросив у умершей прощения за то, что не смогла устроить всё правильно, невестка своим причетом символически «компенсировала» нарушение обряда, и найденные ею для этого слова надолго запомнились слушательнице. Показательно, что сходные наблюдения делаются исследователями на материале поздних записей из других регионов: в вологодских рассказах об исполнении причетов обычно также воспроизводятся наиболее типичные формулы («общие места») либо фигурируют какие-то единичные, уникальные случаи (с редкими причетными строчками) [Югай 2014: 144–145].
Полевые исследования 2009–2011 гг. показали, что чердынские похоронно-поминальные причитания быстро выходят из обихода; при этом в различных частях района зафиксирована неравномерная сохранность плачевой культуры. Жители центральной части вспоминают, что плачи здесь можно было услышать в 1990-х гг., теперь же традиция практически угасла. За исключением с. Редикор (территориально тяготеющего к юго-западной части района), похоронно-поминальные причеты удалось записать только в пос. Рябинино (все исполнительницы – приехавшие сюда уроженки деревень).
Одна из носительниц традиции, А. А. Лашкова, рассказала, что причиной последнего исполненного ею причета (в 2009 г.) стало обещание поплакать, которое перед смертью взяла с нее кума и близкая подруга. Здесь же зафиксирована любопытная модификация причетной традиции, которая могла появиться только на поздней стадии бытования жанра. Во время беседы с пожилой жительницей Рябинино, А. С. Песте-ревой, она показала свой смертный узел – вещи, приготовленные для похорон и хранящиеся в специальном чемодане; среди предметов обнаружилось два листа, на одном из которых был напечатан популярный современный духовный стих «Завещание умирающей матери», а на втором записан текст похоронного плача8: «Ты вставайко родима мамонька. Собрала ли ты дорогих гостей не на пир да не на беседушку. Проводить тебя в последний путь во сырую землю-матушку. Отходили резвы ноженьки отработали белые рученьки, отглядели ясные оченьки. Ты последние часы-минуточки во своем-то да теплом гнездышке» (ПАС). Оказалось, женщина записала причитание собственноручно; над словами сделана приписка, адресованная дочери: «Надя, поплачь». Как и в предыдущем случае, здесь имеет место предварительно оставленное завещание поплакать на похоронах, – но не устное, а письменное; при этом ни дочь А. С. Пес-теревой, ни она сама никогда плачей не исполняли и манерой приплакивания не владеют. По всей видимости, факт исполнения причета оказывается для пожилой женщины важнее, чем вопрос о том, как именно это будет сделано (очевидно, что дочь способна только прочитать записанные слова – публично или наедине с умершей матерью, вслух или про себя). Современными исследователями уже отмечены примеры перевода похоронно-поминальных причитаний в письменную форму (так, известны ситуации, когда северорусские причитальщицы записывают собственные или чужие «слова» непосредственно после их исполнения [Алексеевский 2008: 43]; одна из карельских исполнительниц продиктовала дочери плач на собственную смерть [Степанова 2015: 182]); чердынский случай – еще один пример трансформации традиции, который может быть поставлен в этот же ряд.
Что касается юго-западной части Чердынско-го района (и в особенности правого берега Камы), на момент обследования плачи здесь функционировали гораздо активнее. По рассказам местных жителей, причеты предполагают импровизацию и исполняются только индивидуально: «Плачут, плачут по покойнику. Это у нас есть, заведёно. Вот скажем, покойник, у кого чё наболело, выплакивают всё, присказывают. <…> Ну если там у неё наболело, как она останется одна, ведь всё она приплакивает, высказы-ва́ет всё. <…> А кто знат, чё присказывать, тот присказывает всё и гова́ривает. Люди сидят слушают» (ПНВ). В ряде населенных пунктов (с. Редикор, д. Коэпты, Усть-Уролка, Б. Дол-ды, пос. Курган) есть женщины пожилого возраста, которых периодически зовут причитать по умершим; с некоторой долей условности их можно назвать «профессиональными» плакаль- щицами. Самая молодая из исполнительниц, о которой довелось узнать, – жительница старообрядческой деревни Усть-Уролка В. И. Шаламова, 1956 г. р.; на момент нашего знакомства ей было 55 лет и она уже имела репутацию талантливой причитальщицы. В то же время здесь еще помнят, что традиционно на похоронах и поминках причитать должны были сами родственники (чужих людей раньше приглашали попричитать лишь в дом невесты перед свадьбой).
Обрядовая терминология и рассказы современных причитальщиц
Локальную специфику причетной традиции составляют не только отдельные мотивы плачей, но и обрядовая терминология, закрепленная в данной местности. У русских известны, например, такие обозначения, как «причёта», «вопа», «воя», «жали», «крика» и др. [Чистов 1960: 6]9. Материалы диалектных словарей показывают, что на территории Чердынского р-на зафиксированы слова пла́ча и плачь , обозначавшие жалобную песню, которую поют на девичниках [СРНГ 1992: 02–103]; там же с пометкой «перм.» приводится слово при́четь [СРНГ 1998: 60]. В действительности, как видно по полевым материалам, народные обозначения различных видов причитаний даже в одном только Чердынском районе были много разнообразнее. При этом обращает на себя внимание бóльшая – по сравнению с центральной частью района – дифференцированность обрядовой терминологии камского правобережья. В пос. Рябинино и окрестностях исполнение похоронно-поминальной причети обозначается словами плакать и плачи сказывать ; однако жительницы правого берега хорошо помнят, что эти выражения обозначают только свадебные причитания: « Плачи сказывать – это когда я иду замуж и меня [готовятся отдавать], садимся за стол, жениха пока нету, мне плачи сказывают » (ЛНП). О похоронных же и поминальных плачах здесь говорят причитать , приплакивать, умёршие плакать ; смешения разных наименований информанты старшего возраста не допускают. Интерес представляют и те глагольные единицы, при помощи которых плакальщицы описывают обрядовое причитание как действие. Здесь мы может наблюдать лексически разнообразные глаголы: говорить / сказать, кричать, петь, плакать, причитать .
Рассказчицы подчеркивают, что для исполнения причитаний важно умение импровизировать: «Кажный своё горе по-своему выговариват. Плачет и высказыват. Кажный своё» (ГЮМ); «Что придумаешь, я то и скажу ему» (ЛНП); «Чё вздуматся, то всё говоришь, и говоришь, и говоришь… <…> Оно просто льётся как уже само по себе» (ШВИ). Знание разнообразных традиционных формул и способность присказы-вать «от себя» считаются особым талантом, который есть не у всех: «Ну вот кто такой талантливый, дак много чё присказыват, умеет кто говорить. <…> Просто талантливые есть, а есть которы ничё не знают, дак просто так плачут, ничё не говорят» (ГЮМ). Об особом психологическом состоянии, позволяющем при-плакивать, В. И. Шаламова рассказывает так: «Дальше всё погружаешься, погружаешься. Оно по себе выливается, выливается. И вроде даже не знаешь некоторых слов – они сами подходят, и подходят, и подходят, всё дальше, дальше» (ШВИ). Формулы и мотивы, из которых строится причитание и которые Валентина Ивановна слышала в детстве, существуют в ее памяти и в момент особого эмоционально состояния воспроизводятся плакальщицей – иногда неожиданно для нее самой. При этом набор клишированных формул, перемежаемых личными переживаниями, позволяет выразить собственное, персональное горе. Через употребление рассказчицами таких глагольных форм, как вздумается, взбре-дётся, льётся, погружаешься, выливается, передается индивидуально-спонтанная сторона процесса причитывания; другие лексические единицы и выражения (придумаешь, выговари-ват, приговаривашь, присказыват, слова подходят, выколупат из нутра) показывают понимание природы и назначения причитаний.
В беседах о похоронно-поминальной причети женщины часто подчеркивают важность «правильного голоса»: « Но само главно – голос. Слышать надо, как было пето » (ЛНП); « Она не так же кричит, она говорит и плачет » (НАА); « Конечно, не так, как вот обычно говоришь, и не так, как поёшь. <…> Да практически так же, как песню тянешь, как с отрывами, но не так, как песня поётся. А просто отрываешься » (ШВИ). Одна из местных жительниц назвала нужный для причитания голос мертвецким (т. е. плачущим): « Ну дак не так же высказы-вашь, как щас говоришь, конечно. Как вроде плачешь. Такой голос, как мертвецкой, выводишь. Сам уж такой голос выводишь » (ГЮМ). Рассказчицы констатируют отличие причета одновременно и от простого плача, и от обыкновенной речи, и от обычного пения. Необходимость специфической манеры голошения известна практически повсеместно, где существует плачевая культура; это правило, по-видимому, можно объяснить представлениями об особой природе голоса «как своего рода “орудия связи” между земным человеческим миром и потусторонним миром предков» [Толстая 1999: 135].
Интервью с причитальщицами интересны еще и тем, что показывают их становление как плакальщиц. Так, В. И. Шаламова начала приплаки-вать довольно рано, и побудило ее к этому трагическое событие, которое она тяжело переживала: « Вот я с двадцати трех лет начала, когда сестра у меня умерла, я её очень любила <…> А потом у меня уже само по себе. Даже и при-плакивала по чужим. По чужим, кто близкие, родня, да вот такие ». Большую роль в формировании мастерства причитальщицы сыграла мать Валентины Ивановны (о важности этого момента упоминает большинство исполнительниц): « У нас мама хорошо приплакивала. Я вот от её больше. Она у нас, когда отец помер, мне было четыре года, я почему-то это слышала. Сначала вот отец помер, потом она над другими там – сестра у мамы, например, умерла. Я всё ходила же, ездила <…>. Она это припла-кивала, а я всё как вроде запоминала и как от неё переняла» . О том, что именно трагические события формируют «умение плакать», выразительно сказала и Тамара Николаевна Микова, 1934 г. р., – тоже талантливая плакальщица, жительница д. Большие Долды: « Горе меня научило припла-кивать. У кого горя нет – тот и приплакивать не умеет. Вот так. А у кого горе есть, тот и приплакивать умеет, и всё умеет ». Таким образом, в освоении причетного мастерства большую роль играют не только постоянное наблюдение этой традиции, но и эмоциональные потрясения, заставляющие женщину практиковать подобное ритуализированное выражение скорби.
Об одном причетном мотиве: передача вестки-грамотки
В структуре чердынского похоронно-поминального обряда причитания занимают типичное место. Принято приплакивать в доме в день похорон (в таких причетах присутствуют мотивы сиротства родственников, важен образ покинутого дома – тёпла гнездышка и не той пути-дороженьки, по которой пошел умерший, переселения в новый домик – без окон, без дверей); плачут по дороге на кладбище, а затем над могилой10. Поминальные причитания исполняются в 9-й и 40-й дни, годины; здесь центральным оказывается сюжет ожидания умершего и несостоявшейся встречи, реализуемый с помощью символичных образов расплескавшейся чарочки и потухшей свечи («В правой-то рученьке у меня была чарочка, / А в левой-то рученьке да у меня горела свеченька. / Чарочка-то у меня да расплескалася, / А свечечка-то у меня да потухалася» (ГЮМ)). Причет на Семик / Троицу содержит традиционное для таких причитаний обращение к стихиям – ветрам, грому – с просьбой «расколоть гробову доску» и выпустить умершего на свет (т. н. сюжет «оживления» умершего [Алексеевский 2007]); этот сюжет многократно встречается в семиковых причетах из различных районов края: Соликамского, Карагайского, Кунгурского и др.; широко известен он и в других регионах.
Одним из наиболее интересных мотивов чер-дынской причети можно назвать передачу вестки-грамотки (на тот свет). Само по себе выражение вестка-грамотка и его близкие варианты встречаются в различных жанрах классического фольклора: былинах, исторических песнях, сказках, – т. е. являются формульными (в терминологии Г. И. Мальцева [Мальцев 1989]). Л. Г. Невская рассматривает эту формулу формулу/мотив как элемент совокупного балто-славянского текста погребальной причети; по ее наблюдениям, мотив пёстрой (лит. margas ) / скорописчастой (рус.) грамотки входит в блок сюжетов и текстов, описывающих встречу покойного с умершими родственниками, начало его «другой» жизни, а также послания к ним живых с просьбой о покровительстве [Невская 1993: 11, 176]. Конкретизируя семантику мотива в русских (вологодских) причитаниях, Е. Ф. Югай указывает на то, что здесь он имеет две основные реализации – передачу привета на тот свет и описание того света как невозвратного, откуда нет «ни выходу, ни выезду». «В первом случае поклон словесно передан и условно доставлен»: « Я с тобой, лебедь белая, / Дак накажу наказаньице, / Пошлю поклон-челобитницо <…> / Дак напишу я записочку, / Дак не пером, не чернилами »; «во втором – письмо включается в формулу невозможного <…>: “… Туды почта-то не ходит / В мать-сыру землю / Не послать да письмо-грамотку” » [Югай 2011: 89]11. Именно в этой второй разновидности мотив вестки-грамотки типичен для усть-цилемских причитаний, где он встречается довольно часто: « Не дождать будет мне вести-павести, / Не дождать будет мне письма-грамотки »; « Из той пути да с той дороженьки <…>/ Ни письма нету, ни грамотки, / Ни словесного наказаньица » [Ильина 2013]. Обнаруживается он и в других региональных традициях – например, у русских Южного Урала: « Пишу-то я тебе, сынушко, / Не пером, не чернилами <…>. / Не предают видно нихто, сынушко, / Тебе мои письмы-грамотки. / Всё я жду от тебя весточку, / Не дождусь ни с которой сторонушки » [Похоронно-помин. традиции на Южном Урале 2008: 28–29]12. Мотив ненаписанной / неполученной вестки-грамотки зафиксирован и в единичных записях из Ильинского, Карагайского, Кунгурского районов Пермского края.
На этом фоне ярче проявляется специфика данного мотива в чердынской плачевой тради- ции. Он широко известен повсюду, где плачи еще исполняются, и составляет сюжетную основу специального причета, который может звучать на похоронах. Обычно такой плач исполняет не родственница, а соседка, подруга или знакомая, которая пришла проститься с умершим, пока гроб находится в доме. Считается, что с помощью этого причета через покойника можно передать привет или какую-то новость своему умершему родственнику: «Пошлю-ка я с тобой да вестку-грамотку / До родимой до маменьки. / Неси же ты, неси да не урони, / В леса темные да моря синие, / Неси да передай прямо в руки» (ЛАА). Комментарии исполнительниц показывают, что они действительно воспринимают исполнение подобного причета как акт коммуникации с умершим: «У кого какое горе – так и высказывают. Вестку-грамотку да чё да передают. <…> Пример вот, умер: “Передай-ко да вестку-грамотку, как живу да я да маюся <…>, скажи да расскажи моей-то да милой ладушке”. Он <умерший> и рассказыват. Да, на том свете. Ишшет её и рассказыват!» (ШМК).
Показательно воспоминание, записанное от причитальщицы В. И. Шаламовой из д. Усть-Уролка. Ее мать дала обещание после смерти никогда не видеться родственникам во сне. Но после причета-просьбы, переданной с умершей соседкой, она нарушила обещание и приснилась дочери: « Ну, я вот так же тётке Насте попри-плакивала, говорю ей: “Тётка Настя, вот передай там мамке, да расскажи, как я живу, пускай-ка она привидится мне во сне. Да расскажу ей, какое у меня горе”. Сын у меня был в армии, и мне тогда было так тяжело! И она ведь мне в ту ночь привиделась во сне <…>. И вот так я с ней наговорилася… » (ШВИ). Потребность «наговориться» с покойной матерью была вызвана сложными жизненными обстоятельствами (гибелью младшего сына, призывом в армию старшего, затяжной болезнью самой исполнительницы). Об этом случае помнят и рассказывают также свидетели исполнения причета, для которых произошедшее является еще одним доказательством возможности иномирных контактов: « А вот Валентина Ивановна-то, когда у меня мама умерла, приплакивала. Говорила как-то: “В землю пойдёшь туда, в сыру земелюшку, у меня там мама лежит, ты, тётя Настя, расскажи, как я живу…” И она ей на второй день снилась во сне, её мать-то. Ей наснилось, как будто моя мама передала эти слова » (ДКМ). По-видимому, установление подобного «контакта» до сих пор во многом определяет прагматику этой разновидности похоронного плача и способствует его сравнительной устойчивости на обследованной территории.
Что касается отрицательной формы – вестки-грамотки , которую передать невозможно, – в чердынской традиции она обнаруживается только в свадебных причитаниях невесты-сироты. В них девушка пытается отправить весть с «перелетным да ясным соколом», «со ветрами со буйными» или с заходящим солнцем: « Ты постой, постой, теплое солнышко, / Я пошлю с тобой да вестку-грамотку / Во сыпучую да землю-матушку / Я своему-то кормильцу-батюшке, / Я своей родимой мамоньке » [Зырянов 1975: 36]. Встречается контаминация этой формулы с другими мотивами местных поминальных причетов: « Сколь писала да весточки-грамотки. Не дошла да видно весточка-грамотка до моей до родимой мамоньки. Сколь ждала не дожидалася, выходила на крылечко. Во правой-то рученьке держала чарочку зелена вина, во левой-то рученьке свеченьку да воскоярую. Свечечка-то истеплялася, чарочка-то расплескалася » (ГАИ). В этой разновидности причитаний границы миров всегда изображаются как непроницаемые, а встреча – как невозможная.
Более полно специфика чердынской плачевой традиции может быть выявлена путем сопоставлений с другими локальными традициями Пермского Прикамья. Пока же к числу характерных ее черт можно отнести исключительно сольное исполнение и выраженное импровизационное начало, наличие как универсальных причетных формул, так и редких, особых вариантов их реализации. Наблюдается сравнительно хорошая сохранность и дифференцированность народной обрядовой терминологии. Отдельные случаи приплакивания, содержащие в себе что-то необычное, запоминаются и становятся предметом устных рассказов. Особую роль в чердынской локальной традиции играет похоронный причет с мотивом передачи вестки-грамотки: его исполнение воспринимается не как символическое речевое действие, а как вполне реальный акт коммуникации с умершими, само же устойчивое выражение передать вестку-грамотку , с одной стороны, содержит фольклорную формулу, а с другой – оказывается народным термином и пополняет фонд местной обрядовой лексики.
Примечания
-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 15-14-59003 («Похоронно-поминальный фольклор Прикамья в системе русской традиционной культуры»).
-
2 В фамилии публикатора имеются разночтения: в содержании «Пермского сборника» он
назван Бурдин , а непосредственно в тексте публикации – Будрин [Бурдин 1860: 131]; в Пермском крае встречаются обе эти фамилии.
-
3 По предварительным данным, групповое исполнение похоронно-поминальных причитаний зафиксировано в Юрлинском, Кудымкарском, Карагайском, Ильинском и, вероятно, Сивинском р-нах. Известные нам материалы включают записи из 20 районов современного Пермского края, однако в большинстве случаев сведения о форме исполнения причитаний (индивидуальная / коллективная) отсутствуют.
-
4 В 2009–2011 гг. в формате фольклорных практик и исследовательской экспедиции сотрудниками и студентами филологического ф-та ПГНИУ была обследована центральная часть Чердынского р-на с населенными пунктами по рекам Колвы и Вишеры (пгт Ныроб, пос. Ряби-нино, с. Искор, Камгорт, Бигичи, Редикор, д. Се-рёгово, Урол, Корнино) и его юго-западная часть вдоль Камы (с. Пянтег, пос. Курган, д. Амбор, Б. и М. Долды, Усть-Уролка, Коэпты, Исток); на территории Красновишерского района подобных целенаправленных исследований похороннопоминальной причети не проводилось.
-
5 Ср.: Село Губдор, где в конце 1950-х – начале 1960-х гг. были сделаны записи причитаний (см. тексты № 229 и № 230 в сб. [Народные песни Пермского края 1966: 161]), относилось к Чердынскому р-ну; сегодня это часть Красновишерского р-на.
-
6 В вологодской традиции подобные причитания звучали на кладбище, а затем дома перед прибытием свадебного поезда; Б. Б. Ефименкова указывает, что, заимствуя содержание плача на сорочины, домашнее голошение невесты-сироты исполняется на свадебный напев и чаще хором девушек [Ефименкова 1980: 22]. В кратком комментарии к чердынской причети И. В. Зырянов сообщает, что невеста причитала на могиле родителей [Чердынская свадьба 1969: 42].
-
7 Кроме уже упоминавшихся источников, представление о поэтике чердынских причитаний дают публикации текстов XIX–XX вв.: [Предтеченский 1859: 36, 38–39; Зырянов 1975: 36–40], № 30 и 34 в [Чердынская свадьба 1969]; также нами учтены материалы 1987–1988 гг. из архива фольклорной практики ПГНИУ (плачи невесты-сироты).
-
8 Текст приводится в соответствии с первоисточником.
-
9 Об обрядовой терминологии голошения на более широком славянском материале см.: [Толстая 1999: 145–146; Микитенко 2010: 32– 34, 71, 97].
-
10 О некоторых мотивах чердынских похоронно-поминальных причитаний см.: [Подюков, Хоробрых 2009: 59–62].
-
11 Мотив загробного письма характерен и для плачевой культуры южных славян: в болгарских причитаниях он реализуется как просьба к умершему сообщить о себе: « Писма майк’я от тебе че чека – / писма майци по-често да пи-шеш! » – ‘Письма матушка будет от тебя ждать, / Письма матушке пиши почаще!’, – но встречается тут и мотив непришедшего письма (« от нийде нищо не дойде ») [Микитенко 2010: 261– 262]. У восточных славян, в т. ч. в украинских причитаниях, он в основном представлен в значении невозможного действия: « О мій синоньку! / Чому ж ти ни пісемко ни пришлеш. ..», – либо констатируется, что между тем и этим светом нет никакого сообщения: « Видтиль ни письма не шлють, ни самы не йдуть » [Коваль-Фучило 2014: 72, 77].
-
12 Ср. этот мотив за пределами славянской традиции (но в зоне непосредственных с ней контактов): в карельских причитаниях « легкие, не стираемые, с печатями телеграммочки », « по почтовой почте отправляемые листы-грамотки » встречаются в мотиве-просьбе известить всех родных о смерти и пригласить их на похороны [Степанова 2015: 190–192]. Примеры загробного письма в вепсской и румынской причетных традициях, а также используемые в них номинации послания см.: [Iugai 2016: 170–179].
Список информантов
ДКМ – Дементьева К. М., 1938 г. р., старообрядка, жительница д. Усть-Уролка; 2011 г.
ГАИ – Гамшова (Патрушева) А. И., 1916 г. р., д. Тагъяшер; 1988 г. Фольклорный архив ПГНИУ. Тетр. № 402.
ГЮМ – Габова Ю. М., 1935 г. р., род. в д. Мелехина, жительница с. Пянтег; 2011 г.
ЛАА – Лашкова А. А., 1930 г. р., род. в д. Урол, жительница пос. Рябинино; 2009 г.
ЛНП – Лопарёва Н. П., 1926 г. р., род. в д. Абог, жительница д. Усть-Уролка; 2011 г.
НАА – Няжильченко А. А., 1926 г. р., род. в д. Коэпты, уехала в Украину; зап. в Коэптах, где НАА гостила у сестры, в 2010 г.
ПАС – Пестерева А. С., 1932 г. р., род. в д. Аниковская, жительница пос. Рябинино; 2010 г.
ПНВ – Порошина Н. В., 1928 г. р., жительница с. Редикор; 2011 г.
ШВИ – Шаламова В. И., 1956 г. р., старообрядка, жительница д. Усть-Уролка; 2011 г.
ШМК – Шишигина М. К., 1938 г. р., род. в д. Яранина, жительница с. Пянтег; 2011 г.
TRADITIONAL FUNERAL LAMENTS OF CHERDYN AREA:
CURRENT STATUS, RITUAL LEXIS, “LETTER-MESSAGE” MOTIF
Svetlana Yu. Korolyova
Associate Professor in the Department of Russian Literature
Perm State University
ResearcherID: R-9645-2017
Maria A. Brukhanova
Master’s Student in the Department of Journalism and Mass Communications Perm State University
ResearcherID: S-1044-2017
Submitted 25.12.2017
Список литературы Чердынская похоронно-поминальная причеть: бытование, обрядовая лексика, мотив вестки-грамотки
- Алексеевский М. Д. Сюжет оживления покойника в севернорусских поминальных причитаниях: текст и обрядовый контекст//Антропологический форум. 2007. № 6. С. 227-262
- Алексеевский М. Д. Похоронно-поминальные причитания Русского Севера: проблемы собирания и современное состояние традиции//Актуальные проблемы полевой фольклористики: сб. науч. тр./отв. ред. А. А. Иванова. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. университета, 2008. Вып. 4. С. 36-45
- Бахматов А. А. и др. Русские в Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор: Материалы и исследования/А. А. Бахматов, Т. Г. Голева, И. А. Подюков, А. В. Черных. Пермь: От и до, 2008. 510 с
- Беломестнова А. С. «Ты прости-ко, прощай.»: об одном сложном случае определения жанра//Антропология. Фольклористика. Социолингвистика: сб. тезисов конф. молодых ученых/Европейский университет в С.-Петербурге. СПб., 2014. С. 19-22. URL: https://eu.spb.ru/images/et_dep/asf3/Tezisy_konferentsii_FA-EUSPB_mart_ 2014.pdf (дата обращения: 28.11.2016)
- Будрин Е. Причитания по покойнику (В Кунгурском уезде)//Пермский сборник. Кн. 2, отд. 2. М., 1860. С. 128-131
- Вишерская старина: сб. фольк.-этнолингв. материалов по обрядовой традиции Красновишерского р-на Перм. обл./сост. Н. В. Жданова, И. А. Подюков, С. В. Хоробрых. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2002. 100 с
- Елтышев С. А., Королёва С. Ю. «Надя, поплачь.»: заметки о современном бытовании похоронно-поминальных причитаний в Чердынском районе Пермского края//Дергачевские чтения -2011: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы Х Междунар. науч. конф.: в 3 т./сост. А. В. Подчиненов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. Т. 3. С. 70-80
- Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская обл.). М.: Сов. композитор, 1980. 392 с
- Зырянов И. В. Сюжетно-тематический указатель свадебной лирики Прикамья: учеб. пособие. Пермь, 1975. 183 с
- Зырянов И. В. О взаимосвязях похоронной и свадебной причети //Рукописный отдел ИРЛИ РАН. Личный фонд И. В. Зырянова. Ф. 850. Оп 1. Ед. хр. 8. Л. 31-63
- Ильина Ю. И. Усть-цилемские похоронно-поминальные причитания: указатель основных тем и мотивов//Усть-цилемская фольклорная традиция: справ.-библиогр. мультимедийное изд./сост. Т. С. Канева. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. гос. ун-та, 2013.
- Коваль -Фучило I.М. Українськi голосiння: антропологiя традицiї, поетика тексту. Київ: Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї iм. М. Т. Рильського, 2014. 360 с.
- Корнаухов Н. Этнографические черты города Чердыни, Пермской губернии//Отечественные записки. Т. LVII. Отд. VIII. СПб., 1848. С. 49-58
- Левкиевская Е. Е. Письмо//Славянские древности: этнолингвистич. Словарь: в 5 т./под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2009. Т. 4. С. 52-55
- Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской необрядовой лирики. Исследование по эстетике устно-поэтического канона. Л.: Наука, 1989. 172 с
- Марченко Ю. И. Из ранних записей групповой причети на Русском Севере//Из истории русской фольклористики/отв. ред. А. А. Горелов. Л.: Наука, 1990. Вып. 3. С. 136-155
- Микитенко О. О. Балканослов'яньский текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. Київ: Видавництво Iнститута мистецтвознавства, фольклористики та етнологїi НАН України, 2010. 424 с.
- Народные песни Пермского края: сб. текстов: в 2 т./отв. ред. Т. В. Пирожкова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1966. Т. 1. 274 с
- Невская Л. Г. Балто-славянское причитание. Реконструкция семантической структуры. М.: Наука, 1993. 240 с
- Подюков И. А. Карагайская сторона: Народная традиция в обрядности, фольклоре и языке. Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. 319 с
- Подюков И. А. и др. Усольские древности: сб. трудов и материалов по традиционной культуре русских Усольского района к. XIX -XX вв./И. А. Подюков, А. М. Белавин, Н. Б. Крыласова, С. В. Хоробрых, Д. А. Антипов. Усолье; Соликамск; Березники: Перм. кн. изд-во, 2004. 248 с
- Подюков И. А., Хоробрых С. В. Голуби на часовенке: Сказки и песни деревни Усть-Уролка. Пермь: Сота, 2009. 128 с
- Похоронно-поминальные традиции на Южном Урале: сб. материалов фольк. экспедиций Лаб. нар. культуры Магнитогор. гос. ун-та (19932007 гг.)/авт.-сост. Т. И. Рожкова, С. А. Моисеева. Магнитогорск: Изд-во Магитогор. гос. унта, 2008. 222 с
- Предтеченский Я. О свадебных обрядах города Чердыни//Пермский сборник. Кн. 1, отд. 2. М., 1859. С. 1-107
- Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым. Т. 1: Похоронные причитания/вступ. ст. К. В. Чистова; отв. ред. А. М. Астахова. СПб.: Наука, 1997. 501 с
- Русские плачи Карелии/под ред. М. К. Аза-довского. Петрозаводск: Госиздат К.-Ф. ССР, 1940. 322 с
- Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Свадебная поэзия. Похоронная причеть/сост. Р. П. Потанина, Н. В. Леонова, Л.Е. Фетисова. Новосибирск: Наука, 2002. 551 с
- Серебренников В. Н. Похоронные обычаи и причитания по умершим у крестьян Стряпухин-ской волости Оханского уезда. Пермь: Тип. союза потреб. обществ С.-В. района, 1918. 6 с
- Словарь русских народных говоров/гл. ред. Ф. П. Сороколетов. СПб.: Наука, 1992. Вып. 27. 401 с
- Словарь русских народных говоров/гл. ред. Ф. П. Сороколетов. СПб.: Наука, 1998. Вып. 32. 272 с
- Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи/ред. О. А. Пашина, М. А. Енго-ватова. М.: Индрик, 2003. 552 с
- Степанова Э. Плачи Прасковьи Савельевой на свою смерть в контексте карельской традиции причети//Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре/сост. А. Д. Соколова, А. Б. Юдкина; отв. ред. Д. В. Громов. М.: ИЭА РАН, 2015. С. 182-196
- Толстая С. М. Обрядовое голошение: семантика, лексика, прагматика//Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М.: Индрик, 1999. С. 135-148
- Успенская Н. Н. От составителя//Духовные стихи Пермского края/сост. Н. Н. Успенская. Екатеринбург: Изд-во Свердл. обл. Дома фольклора, 2009. С. 3-6
- Чердынская свадьба/зап. и сост. И. Зырянов. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1969. 248 с
- Четина Е. М., Роготнев И. Ю. Символические реальности Пармы: Очерки традиционной культуры Пермского края. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2010. 223 с
- Чистов К. В. Русская причеть//Причитания. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 5-44
- Щупак (Мехнецова) Г. Н. Свадебные и похоронные причитания в записях и исследованиях И. В. Зырянова: по архивным материалам Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН//Народная традиционная культура в образовательных программах и научных исследованиях: сб. материалов Всерос. конф. 2008-2010 гг. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 290-308.
- Югай Е. Ф. Ключевые образы плача (на материале похоронных и поминальных причитаний Вологодской области): дис.. канд. филол. наук. М., 2011. 251 с
- Югай Е. Ф. «Я не причитаю, не покажу на голос». Какие строчки причитаний дольше всего сохраняются в памяти?//Механизмы культурной памяти: от фольклора до медиа: тезисы докл. Междунар. науч. конф./сост. О. Б. Христофо-рова, Д. И. Антонов, М. В. Ахметова, Н. В. Петров. М., 2014. С. 142-146. URL: https://yadi.sk/d/mixYPWu6cokr8 (дата обращения: 11.11.2017)
- Iugai E. "From This Place You Cannot Hear Speech. From This Place You Cannot Receive a Letter": The Letter-Message in Russian Funeral Lamentations//The Ritual Year 11: Traditions and Transformation. The Yearbook of the SIEF (Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore) Working Group on the Ritual Year/еd. by G. Stolyarova, I. Sedakova, N. Vlaskina. Kazan; Moscow: 2016. Vol. 8. P. 185-184