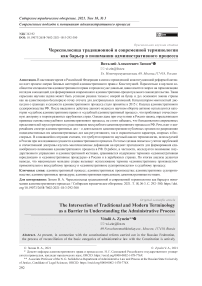Чересполосица традиционной и современной терминологии как барьер в понимании административного процесса
Автор: Зюзин В.А.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Современные подходы к пониманию административного процесса
Статья в выпуске: 3 т.18, 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в Российской Федерации в связи с проведенной конституционной реформой активно идет процесс сверки базовых категорий административного права с Конституцией. Параллельно в научном сообществе специалистов административного права и процесса уже довольно давно имеется запрос на гармонизацию взглядов и концепций для формирования современного административно-процессуального законодательства. Такая серьезная научная задача может быть успешно решена только с опорой на букву и дух основного закона страны как на единственную бесспорную точку отсчета для доктринальных положений. Катализатором многолетней дискуссии о границах и сущности административного процесса стало принятие в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства РФ. После введения в действие данного кодекса в научном обороте активно используются категории «судебное административное право» и «судебный административный процесс», что приближает отечественную доктрину к теории развитых зарубежных стран. Однако даже при отсутствии в России закона, определяющего правовые основы внесудебного административного процесса, не стоит забывать, что большинством современных представителей науки признается существование внесудебного административного процесса в РФ. Речь идет о широчайшем спектре административных дел - о деятельности административно-публичных органов по разрешению подведомственных им административных дел как регулятивного, так и охранительного характера, спорных и бесспорных. В сложившейся ситуации считаем, что требуется провести научный анализ терминологии, используемой в России при исследовании сущности административного процесса. В статье сделана попытка с учетом зарубежной и отечественной доктрины изучить многочисленные дефиниции на предмет пригодности для формирования единообразного понимания административного процесса в РФ. В работе, в частности, исследуется понимание государственного управления и административной юстиции, сравнивается содержание терминов «административная юрисдикция» и «административные процедуры» в России и в зарубежных странах. По итогам анализа делаются выводы, что максимально меньшие споры вызывает использование термина «административное производство» применительно к внесудебному процессу и «административное судопроизводство» к судебному процессу.
Административный процесс, административные производства, административное судопроизводство, административные процедуры, административная юрисдикция, административная юстиция
Короткий адрес: https://sciup.org/143177907
IDR: 143177907 | УДК: 342.92 | DOI: 10.19073/2658-7602-2021-18-3-292-300
Текст научной статьи Чересполосица традиционной и современной терминологии как барьер в понимании административного процесса
В развитых зарубежных странах административное право с середины XX в. постепенно трансформируется: из права «для администрации» становится правом «для гражданина в отношениях с администрацией». При этом основная задача административного права формулируется не как управление, а как защита частных лиц от произвола со стороны администрации. Важнейшим институтом административного права в Западной Европе и Северной Америке становится административная юстиция – т. е. особый процессуальный порядок разбирательства правовых споров между частными лицами и субъектами, реализующими публичные интересы, в специальных административных судах либо особых структурных подразделениях в рамках органов исполнительной власти и судах общей юрисдикции, наделенных законом юрисдикцией по административным делам.
Отечественное административное право в связи с событиями 1917 г. в советский этап своего развития отошло от общемирового пути развития. Отсутствие института частной собственности и доминирование государства во всех сферах общественной жизни объективно не позволяло выделять частные интересы в отношениях с административными властями. Административная юстиция отвергалась полностью – как буржуазный, чуждый элемент. Возможность споров между советскими гражданами и советским государственным аппаратом отрицалась полностью. Советское понимание административного права как управленческого права, права для администрации, привело к умалению роли административного процесса, низведению его до управленческой деятельности. Кроме дел об административных правонарушениях, долгое время не выделялись иные индивидуальные конкретные административные дела, которые должны разрешаться в определенном порядке согласно соответствующей процедуре. На практике это привело к отсутствию кодифицированного административно-процессуального законодательства и вынужденного на долгие десятилетия существования фрагментарных административно-процессуальных норм в составе административного права.
Очевидно, что при смене парадигмы общественно-политического строя России в 1990-х гг. отечественная административно-правовая наука при переходе от советского к российскому этапу своего развития объективно не была готова в полной мере осознать и воспринять феномен административного процесса. Это можно понять, учитывая, насколько разными были базовые ценности, экономические условия и терминология на советском и российском этапах развития административного права. Ряд институтов, выработанных зарубежной доктриной, в административном праве РФ полностью отсутствовали. Приходится признать, что за 30 лет российские специалисты административного права не очень продвинулись на пути выработки общепринятой доктрины административного процесса. Несколько десятилетий повторяются утверждения о том, что не сформировано общепризнанного определения административного процесса, что среди исследователей имеются разногласия по вопросам сущности, содержания и структуры административного процесса1.
П роблемы « традиционной » терминологии
Административный процесс изучается в курсе сложнейшей дисциплины административного права, что еще больше отдаляет нас от правильного понимания этого феномена. Здесь прослеживается инерция советского восприятия, когда изучение процессуальных аспектов почти всегда ограничивалось только производством по делам об административных правонарушениях.
Приступая к изучению административного процесса каждая научная школа отстаивает свои позиции, а также предоставляет разный объем и характер знаний, что в дальнейшем обусловливает негативное восприятие административного процесса в целом процессуалистами из смежных отраслей уголовного и гражданского процесса. Доходит до того, что цивилисты, да и отдельные административисты воспринимают административное судопроизводство как процесс гражданский, а не административный!
Одной из важнейших проблем, мешающих объективному взгляду на сущность административного процесса, является отсутствие в науке единой терминологии. Причем «единая» здесь понимается не как близкая по сути трактовка понятий, а как повсеместное использование современных терминов в их правильном содержании. В российской науке сложилась обратная ситуация - при исследовании административного процесса применяются как традиционные, выработанные советской доктриной термины («государственное управление», «административная юрисдикция», «административное производство»), так и термины зарубежного права - «административная юстиция», «административные процедуры» («административная процедура»). Кроме того, применяются новые дефиниции российского законодательства – «административное судопроизводство», «административные регламенты». Такая мешанина терминов никогда не позволит ученым не только договориться, но и услышать друг друга. Более того, многообразие разной, по существу, терминологической базы объективно отдаляет административный процесс от других видов процесса и не позволяет ему занять достойное место рядом с уголовным и гражданским процессами.
Государственное управление. Прежде всего необходимо полностью исключить увязку административного процесса с государственным управлением - термином исключительно советской административно-правовой науки. Понимание административного процесса из управления или даже исключительно из публичных интересов не соответствует современному конституционному признанию прав и свобод граждан высшей ценностью. В рамках системы разделения властей к государственному управлению невозможно отнести институт административной юстиции, а также административное судопроизводство. Традиционный подход ведет к признанию ключевой функцией органов исполнительной власти именно государственного управления [1, с. 125], при этом забывается конституционное положение, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Л. Л. Попов признает, что признание - самое трудное для государственного управления [2, с. 25]. Видимо, потому что оно чуждо в историческом контексте для традиционных «органов государственного управления».
При соотнесении административно-процессуальной деятельности с государственным управлением происходит привязка к термину, который сам неоднозначен и даже понимается в широком и узком смысле. Данный термин порождает новые, производные от него понятия – управленческий процесс, управленческие процедуры, которые важно отделить собственно от процесса административного.
Следует особо обратить внимание на то, что в административно-процессуальном законодательстве среди всех видов (категорий) судебных административных дел отсутствуют дела, «возникающие из отношений государственного управления». Безусловно, сам феномен государственного управления отрицать бессмысленно, но, на наш взгляд, этот феномен не административно-правовой, а универсальный и общественно-политический. Думается, что определять правовые конструкции через универсальные дефиниции нецелесообразно.
Административная юрисдикция. Перейдем к также традиционному для России термину «административная юрисдикция». Он, с одной стороны, достаточно прочно сцеплен с административно-процессуальной деятельностью как в России, так и в зарубежных странах, и отказаться от него практически невозможно. С другой стороны, данная дефиниция в ее отечественном наполнении, выработанная в условиях практически полного отсутствия института оспаривания в суде актов, решений и действий субъектов, наделенных публичной властью, резко суживает объем административного процесса. Понимание административной юрисдикции и то место, которое занимает данный институт в административном праве зарубежных стран, кардинально отличается от российского подхода.
Во-первых, вопросы административной ответственности и административных правонарушений не занимают значимого места в административном праве государств Европы и Северной Америки, так как принудительное воздействие на правонарушителя реализуется прежде всего через уголовные наказания, дифференцируемые в зависимости от степени общественной опасности содеянного и лично- сти преступника, а также гражданско-правовые взыскания, призванные компенсировать причиненный вред2.
Собственно административные наказания (административные санкции, административные взыскания), установленные отдельными отраслевыми законами, регулирующими определенные сферы деятельности, и принятыми на их основе регламентами, налагаются только административными органами.
Во-вторых, в зарубежной правовой науке важнейшим является предоставление частному лицу возможности в судебном порядке разрешить конфликт, в том числе и с публичным органом. В классическом понимании термин «юрисдикция» (лат. Jurisdictio ), который выводится из jusdicere (говорить право, т. е. судить, постановлять), означает судопроизводство или ведение суда. Этот термин в своем исконном смысле обозначает полномочие суда решать спорные правовые вопросы в рамках своей компетенции.
Согласимся с А. Б. Зеленцовым и О. А. Ястребовым, что административная юрисдикция является административной не потому, что осуществляется административными органами, а потому, что ее предметом выступает конфликт, имеющий административную природу3.
В зарубежных странах административная юрисдикция понимается не в связи с понятием «административная ответственность», а в паре с институтом «административная юстиция» как предметная и территориальная компетенция судебного или квазисудебного органа. Речь идет о наделении определенного органа полномочиями по разрешению административных дел.
Традиционное для России восприятие термина «административная юрисдикция» приводит в том числе к выделению в отдельных теоретических концепциях в рамках административного процесса наряду с административными процедурами отдельных частей – административной юрисдикции и административной юстиции. На определенном этапе развития науки это была прорывная концепция, которая раскрыла широкое содержание административного процесса. Однако сейчас очевидна невозможность строить теорию административного процесса на данном неоднозначно воспринимаемом термине. В противном случае придется раскрывать наполнение этой части процесса и наполнение административной юстиции.
П роблемы СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
К современной терминологии, активно используемой применительно к российскому административному процессу, прежде всего отнесем понятия административной юстиции и административных процедур.
Административная юстиция. Термин «административная юстиция», заимствованный из зарубежной доктрины, не имеет там общепринятого единообразного понимания. Административная юстиция - это и особый процессуальный порядок разбирательства правовых споров между частными лицами и публичной администрацией в специальных административных судах либо особых структурных подразделениях в рамках органов исполнительной власти и судах общей юрисдикции, наделенных законом юрисдикцией по административным делам4. Административная юстиция в зарубежной доктрине может пониматься как «организация, полномочия и процедуры судебных органов, которые в соответствии с законодательно установленными стандартами осуществляют основной контроль за деятельностью администрации» [3, с. 890]. Такое положения во многом связно с историческим формированием административного права в процессе деятельности общих и административных судов, трибуналов в рамках защиты прав частных лиц при оспаривании прежде всего административных актов. Для европейских и североамериканских юристов немыслимо представить, что может не быть судебного административного процесса, – ведь именно суды во многом формировали собственно административное право. Здесь административная юстиция – это не только ключевой элемент системы правосудия и правового демократического государства, но важнейшая часть организации системы хорошей администрации ( good administration ), и понимается в том числе как принцип, на котором основано современное административное право.
В России, где административный процесс исторически восходит к деятельности органов государственной администрации, часть ученых не готова расширить восприятие административного процесса. Закрепленное в Кодексе об административных правонарушениях в советское и постсоветское время смешение деятельности несудебных органов и судов в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях по одним процессуальным правилам резко ограничивает понимание роли суда как независимого органа судебной власти. К сожалению, юристы и даже судьи порой не воспринимают рассмотрение административных дел в судах по Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации и Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации как административный процесс. Во многом это происходит из-за восприятия административного права исключительно как права из государственного управления, которое, конечно, не сочетается с административной юстицией.
В России административная юстиция часто смешивается с административным судопроизводством, притом, что:
-
а) научное понятие «административная юстиция» и легальное понятие «административное судопроизводство» не равны по объему, а соответствующие термины неидентичны [4, с. 19–25; 5, с. 2–6];
-
б) в ряде стран административная юстиция осуществляется в порядке административного, а в других - в порядке гражданского судопроизводства, а в отдельных - в порядке административного и гражданского судопроизводства;
-
в) в порядке административного судопроизводства в РФ рассматриваются не только административные дела о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (административно-правовосстановительные дела), которые могут быть отнесены к административной юстиции, но и административно-деликтные дела, а также административ-но-санкционирующие дела [6, c. 32–36].
Действительно, в каждой стране понятия «административная юстиция» и «административное судопроизводство» трактуются с учетом особенностей своей правовой системы и организационной модели административной юстиции. К административной юстиции можно отнести только судопроизводство по жалобам на акты и действия административных органов, притом, на основании процессуальных норм, полностью или частично отличающихся от норм, обычно применяемых судами при разрешении споров между физическими лицами. Важно отметить, что при этом не исключено, что отдельные споры, в которые оказываются вовлеченными административные органы, полностью рассматриваются в рамках гражданского права [7, с. 890].
Считаем, что институт административной юстиции в России не может сложиться до общепризнанного принятия наличия в стране судебного административного процесса. Таким образом, считаем, что использование данного термина для раскрытия содержания административного процесса в нашей стране преждевременно.
Административные процедуры (административная процедура). Самым сложным видится выделение в отечественном административном процессе административных процедур, – еще одного современного зарубежного термина, который, однако, понимается в странах Европы и Северной Америки иначе. В 1940– 1950 гг. в науке административного права зарубежных стран начался процесс перенесения отдельных удачных элементов административной юстиции на неспорные отношения в сфере реализации функций публичной администрацией. Был задан вектор процессуализации позитивных отношений граждан и чиновников в развитии демократических прав граждан. Права частного лица в административном праве, целью которого является их защита от произвола со стороны администрации, понимается не только как право на доступ к административному правосудию, но и как право на участие в принятии административных решений, право быть услышанным администрацией. Понимание института административной процедуры немыслимо без осознания ее целевого назначения, анализа стоящих перед институтом задач. Именно поэтому большинство зарубежных стран рассматривает понятие административной процедуры с точки зрения ее целей и направленности [8, с. 279].
Целью законодательства об административных процедурах стало не просто упорядочение управленческих, бюрократических действий администрации, а привлечение заинтересованных лиц к процессу разработки и принятия административных решений. Административная процедура – это уровень взаимодействия граждан и государства, при котором осуществляется поиск баланса частных и публичных интересов при принятии административного акта или административного решения. И если в странах «старой» демократии данные вопросы разработаны правовой доктриной и судами, то в ряде новых по времени законов об административной процедуре прямо указываются ее цели.
Так, в Финляндии целью административной процедуры являются достижение, укрепление и развитие качественной (буквально – хорошей) администрации ( good administration ), а также обеспечение доступа к правосудию по административным вопросам, повышение качества и продуктивности административных услуг5. В Эстонии целью закона об административной процедуре признается обеспечение защиты прав лиц путем создания единой процедуры, которая предусматривает участие лиц в принятии административных актов, а также судебный контроль6. В Грузии цель Общего административного кодекса формулируется как обеспечение соблюдения административными органами прав и свобод человека, публичных интересов и верховенства закона7.
По смыслу административная процедура в ее исконном значении – это стандарт, принцип, определяющие систему взаимоотношений граждан и организаций с администрацией вне суда или квазисудебного органа. Административная процедура представляет собой сердцевину всех процессуальных норм несудебного или неюрисдикционного административного права зарубежных стран. Именно данный институт позволяет реализовать право граждан на хорошее управление – принцип высшего порядка, закрепленный в ст. 41 Хартии основных прав Европейского Союза8. Административное право на новом уровне развития в зарубежных странах предъявляет требования к управлению, устанавливает стандарты хорошей администрации (Good administration), хорошего управления (Good governance). Причем, Good administration – это не деятельность, а, согласно ст. 1 Приложения к Рекомендации CM/Rec(2007)7 Комитета министров Совета Европы (Кодекс хорошей (надлежащей) администрации (Code of good administration)) – цель, стандарт, который необходимо достичь и поддерживать публичным учреждениям в рамках своей деятельности9.
Российская правовая традиция использует термин «административные процедуры» во множественном числе, пытается дать четкую дефиницию, однако определение административных процедур в российской науке дается через: 1) порядок деятельности; 2) определенный вид деятельности; 3) нормативный регулятор10. Уровень развития действующего законодательства показывает невозможность использования термина «административные процедуры» без его смешивания на практике с административными производствами или административными регламентами. При этом отечественные административные регламенты, которые разрабатываются самими государственными органами для пошагового описания своих функций или оказания государственной услуги, не несут смыслового содержания административной процедуры. Считаем, что термин «административные процедуры» не только фонетически принижает роль данной части административного процесса, но, что более важно, путает законодателя, вынуждая механически разрабатывать регламенты для реализации той или иной процедуры. Сам термин был заимствован из законодательства зарубежных стран, причем термины procedimento (итал.), procedimento (исп.), procedure (англ.), procedure (фр.), Verfahren (нем.) могут переводится не только как процедура, но и как процесс, производство.
Наступило время признать, что в современных правовых реалиях термин «административные процедуры» для обозначения части (вида) административного процесса исчерпал себя. Этот термин был уместен, когда было важно подчеркнуть, что кроме спорного административного процесса есть еще широкий пласт позитивных неконфликтных административных дел, порядок разрешения которых следует отнести к административному процессу. Однако в насто- ящее время видится излишним противопоставлять процедуры и процесс.
А дминистративное судопроизводство И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
При исследовании административного процесса объективно меньше трудностей для трактовки создают легальное понятие «административное судопроизводство» и традиционный институт административных производств. Впрочем, крайностью считаем отождествление административного процесса в целом только с административным судопроизводством11. С одной стороны, данная дефиниция в отличие от других рассмотренных закреплена в ст. 118 Конституции РФ. Однако в Основном законе страны административное судопроизводство не закреплено как единственная форма административного процесса. Более того, согласно положению п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ административно-процессуальное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и таким образом выходит за пределы возможного только на федеральном уровне регламентирования административного судопроизводства.
Термин «административное судопроизводство» крайне важен для уяснения содержания и границ административного процесса. Административное судопроизводство – естественная и логичная форма осуществления судебного административного процесса. Тогда, если мы не ограничиваемся только судебным процессом и признаем внесудебный или исполнительный процесс в качестве сопряженного понятия, следует использовать такие устоявшиеся в российской науке и законодательстве категории, как производства. Термин «производство» используется в уголовном и гражданском процессе, что облегчает терминологическое единство процессуальных дисциплин. Он применяется в административном законодательстве (производство по делам об административных правонарушениях, исполнительное производство).
Ограничиваться только судебной частью или только внесудебной в настоящее время не получается по объективным причинам.
Невозможно не заметить огромный массив практики судебных решений, выносимых по административным делам, причем за рамками производства по делам об административных правонарушениях. Прежде всего это административные дела, рассматриваемые в порядке Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отметим, что большинство административных дел, рассматриваемых судами, основана и порождается административными актами, действиями (бездействием) и решениями, которые принимаются субъектами, наделенными публичными полномочиями в рамках рассмотрения внесудебных административных дел, т. е. это связанный маршрут, который для гражданина или организации начинается во внесудебном порядке, а затем может перейти в судебное рассмотрение. Отметим, что на английский язык термины «административное производство» и «административное судопроизводство» могут быть переведены идентично – как “ administrative proceedings ”, что еще раз подчеркивает сущностную взаимосвязь данных дефиниций не только в отечественном праве.
Таким образом, отказ от признания любой из двух частей процесса (внесудебной и судебной) разрывает смысловое единство разрешения административного дела. Такой разрыв приводит к пробоине в ядре современного административного права – системе отношений публичной администрации с частными лицами, в рамках которой осуществляется правовое обеспечение конституционных прав и обязанностей граждан и реализуется баланс частных и публичных интересов.
Принятие и введение в действие с 15 сентября 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и формирующаяся практика его применения требуют принятия закона, как точно определяет Ю. П. Соловей, регламентирующего принципы внесудебного процесса, причем (с учетом разнообразия терминологии в доктрине на данный момент. – В. З.) наименования закона могут быть различными (закон о административных процедурах, административном производстве, административной деятельности, администрировании) [9, с. 153]. Данная позиция еще раз показывает значимость выработки единообразной терминологии применительно к отечественному административному процессу.
Отметим, что наш партнер по Евразийскому союзу – Республика Казахстан, в 2020 г. приняла новый Административный процедурно-процессуальный кодекс12, в котором четко прослеживается органическое единство внесудебной части процесса (административных процедур) и судебной (административное судопроизводство). Так, согласно ст. 1 Кодекса законодательство Республики Казахстан об административных процедурах и законодательство Республики Казахстан об административном судопроизводстве состоит из Кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, основанных на Конституции Республики Казахстан (конституционными законами Республики Казахстан) и общепризнанных принципах и нормах международного права.
З аключение
Краткий анализ терминов, которые используется в отечественной науке применительно к административному процессу показывает следующее.
-
1. Одновременно приводятся термины разных историко-правовых периодов: как традиционные для советской науки, так и современные, пришедшие из зарубежного права.
-
2. Отдельные термины (государственное управление) не могут рассматривать применительно к административному процессу в текущих правовых условиях.
-
3. Содержание терминов «административная юрисдикция», «административные процедуры», «административная юстиция» на практике в российских условиях приобретает крайне узкое и специфическое значение, вызывает многочисленные споры и не способствует единообразию взглядов на административных процесс.
-
4. Единственным бесспорным термином является конституционно значимое понимание административного судопроизводства, которое логически влечет необходимость использования сопряженного понятия производства для внесудебного административного процесса.
Список литературы Чересполосица традиционной и современной терминологии как барьер в понимании административного процесса
- Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение:/ под ред. Л. Л. Попова. М.: Норма: Инфра-М, 2011. 320 с.
- Попов Л. Л. Ренессанс государственного управления в России. Избранное. М.: Норма: Инфра-М, 2015. 368 с.
- Winkler R. Administrative Justice in Europe: The EU Acquis, Good Practice and Recent Developments // Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2007. Vol. 7, № 4. P. 887-911.
- Бахрах Д. Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и административный процесс // Государство и право. 2005. № 2. С. 19-25.
- Бахрах Д. Н. Административно-процессуальная деятельность государственной администрации // Административное право и процесс. 2009. № 3. С. 2-7.
- Порываев С. А. К вопросу о понимании и систематизации судебных административных дел в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2020. № 11. С. 32-36. DOI: 10.18572/2071-1166-2020-11-32-36
- Марку Ж. Структура административной юстиции: опыт применения различных моделей // Международный экспертный семинар на тему "Роль административной юстиции в защите прав человека". 14-15 декабря 2009 г. М.: Права человека, 2010. С. 37-41.
- Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. М.: Юристъ, 2002. 410 c.
- Соловей Ю. П. Принципы административных процедур как правовые средства "связывания" административного усмотрения // Ежегодник публичного права 2018: Принципы административных процедур и административного судопроизводства. М.: Инфотропик Медиа, 2018. С. 141-161.