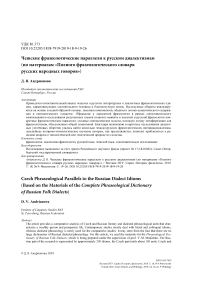Чешские фразеологические параллели к русским диалектизмам (по материалам "Полного фразеологического словаря русских народных говоров")
Автор: Андрианова Дарья Витальевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Проводится сопоставительный анализ чешских и русских литературных и диалектных фразеологических единиц, характеризующих состоятельного человека и благополучную жизнь. Исследуемые обороты анализируются на основе сходной образной основы, тематики компонентов, общности логико-семантического содержания и синтаксического «сюжета». Обращение к диалектной фразеологии в рамках сопоставительного межъязыкового исследования родственных языков позволил выявить в чешской и русской фразеологии конкретные фразеологические параллели, сходные синтаксические модели, похожую логику метафоризации для фразеологизмов, объединенных общей семантикой. Благодаря включению в картотеку исследования диалектных устойчивых оборотов удалось найти несколько чешско-русских фразеологических интернационализмов, дальнейшее историко-этимологическое изучение которых, как представляется, позволит приблизиться к решению вопроса о типологической или генетической природе их сходства.
Фразеология, диалектная фразеология, русский язык, чешский язык, сопоставительное исследование
Короткий адрес: https://sciup.org/147220178
IDR: 147220178 | УДК: 81.373 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-9-19-26
Текст научной статьи Чешские фразеологические параллели к русским диалектизмам (по материалам "Полного фразеологического словаря русских народных говоров")
К настоящему времени накоплен значительный и успешный опыт исследований по сопоставлению фразеологии родственных и генетически удаленных друг от друга языков, языков ареально близких и далеких, фразеологии общеевропейской, славянской и пр. В последние десятилетия активно изучается диалектная фразеология русского языка, создаются диалектные фразеологические словари, поскольку очевидно, что «для подробного и всестороннего изучения истории формирования фразеологии русского национального языка, для установления этимологии фразеологизмов нужны более полные диалектные фразеологические словари» [Фёдоров, 1983. С. 3]. Учеными наработана обширная теоретическая база для компаративных исследований, и сегодня многие вопросы, например, о соотношении национального и интернационального во фразеологии, проясняются. Вместе с тем материалом для работ по сопоставительной фразеологии чаще всего становятся единицы, известные прежде всего литературным языкам, в то время как диалектные обороты, представляющие собой объемный и разнообразный пласт, который является плодотворной почвой для литературной фразеологии, пока относительно редко привлекаются для подобного рода исследований.
Важность включения максимально полного материала (в том числе диалектного, просторечного, жаргонного) в межъязыковые исследования отмечается учеными по меньшей мере с 70-х гг. ХХ в. [Мокиенко, 1973. С. 24], к этому же времени, по-видимому, относятся первые работы, привлекающие диалектную фразеологию для сопоставления с фразеологией других языков (Б. А. Ларин, Л. И. Ройзензон, В. М. Мокиенко, К. Н. Прокошева и др.).
Объективной причиной для малой включенности диалектного материала в современные работы по сопоставительной фразеологии является, безусловно, отсутствие сводного словаря русских диалектных фразеологизмов [Ройзензон, 1974. С. 115]. В настоящее время под руководством проф. В. М. Мокиенко подходит к концу многолетняя работа над «Полным фразеологическим словарем русских народных говоров» (ПФСРНГ). Реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря многолетнему труду лексикографов, создающих специа- лизированные фразеологические словари: «Фразеологический словарь русских говоров Сибири» под ред. А. И. Федорова, «Фразеологический словарь пермских говоров» К. Н. Прокошевой, «Фразеологический словарь русских говоров Республики Мордовии» Р. В. Семенковой, «Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры» Н. А. Ставшиной и мн. др. Включение в научный обиход обширного диалектного фразеологического материала, несомненно, откроет совершенно новые возможности для исследований самой разной направленности.
Результаты исследования
Русская часть картотеки настоящего исследования представлена приблизительно 250 единицами, зафиксированными в рабочем варианте ПФСРНГ, чешская часть картотеки насчитывает порядка 150 фразеологических единиц (ФЕ), отобранных из «Словаря чешской фразеологии и идиоматики» Ф. Чермака (SČFI) [Čermák, 2009], а также из словаря литературной и диалектной фразеологии чешского языка Л. Заоралка «Lidová rčení» (LR) [Zaorálek, 2000].
В настоящей статье обратимся к достаточно компактной теме – фразеологическому портрету благополучного и состоятельного человека в русском и чешском языках. Очевидно, что поле позитивной характеристики относится к фразеологической периферии, в то же время благополучие человека, в том числе его материальное благополучие, – понятие во все времена актуальное [Грошева, 2008. С. 214], но трактуемое и оцениваемое в разные времена и в разных культурах (в том числе в разных христианских культурах) по-разному. Интересно найти фразеологические параллели и несоответствия в плане фразеологической формы и содержания в чешских и русских устойчивых оборотах – как литературных, так и диалектных.
В работах по сопоставительной фразеологии исследователи традиционно используют или предлагают ту или иную классификацию (градацию) ФЕ по степени эквивалентности конкретных устойчивых оборотов в сопоставляемых языках, и к настоящему моменту таких классификаций существует уже несколько десятков [Фойту, 2013. С. 11]. Так, тема богатства и бедности в чешских и русских фразеологических оборотах в переводческом аспекте уже поднималась исследователями [Ядловский, 2008]. Однако в данной работе хотелось бы сместить фокус с поиска и подбора межъязыковых соответствий на анализ логико-семантической составляющей рассматриваемой идеографической группы.
Одной из точек схождения между чешскими и русскими ФЕ, характеризующими состоятельного человека, является их сходная образная основа : вобраться ( войти ) в перья ( Пск .) и narostlo mu ( na něm ) peří ; зобок набитый у кого ( Морд. ), из глотки лезет у кого ( Курск. ) и má plný gagor ( gagor – словацк. ‘горло’), máme toho cо hrdlo ráčí ; жить полным домом , большое житьё ( Печор ., – ‘о крепком, зажиточном хозяйстве’) и vede veliký dům ; в добрых днёх ( Пск. ), видеть ясные дни ( Сиб. ) и mít zlaté časy , mít malované časy , mít dobré dni , mít někde hedvábné časy ( věk ); на двух ( крепких , своих ) ногах ( Печор. ), стать на боевую ( боеву ) ногу ( Кемер. ), стать на широкую ногу ( Ср.-Обск. ) и je pevný v kramflekách ( v kramflekách – ‘на каблуках’).
Любопытный случай сходной образной основы наблюдаем в ФЕ jeho pes nebude jísti samého chleba и куры не клюют и собаки не едят (народн.), а также куры не глядят (Кар.), куры не клюют чего у кого (Курск., Ленингр., Пск., Ряз.), куры не клюют и мыши не едут (Пск.). Близок по образной мотивировке к этим оборотам и чешский myši mu žerou peníze. Как отмечают исследователи, «происхождение многих интернационализмов связано с особенностями повадок, поведения домашних и диких животных, птиц, насекомых, одинаково подмеченных разноязычными народами» [Солодухо, 1982. C. 116]. Так, образ собаки, отказывающейся от какой-л. еды, встречается в чешской и русской фразеологии неоднократно. Например, общеевропейский фразеологизм ani psi (pes) by toho nejedli [Flajšhans, 1911–1913, sv. 2, s. 129] и [и] собаки есть не станут что (Курск. Неодобр.) имеет совпадающее в русском и чешском языках значение ‘о невкусной, неаппетитной пище’. Оборот ani pes by od neho kйrku chleba nevzal характеризует человека, дискредитировавшего себя, с которым никто не хочет иметь дела [Mrhacova, 1999, s. 109]. Собаки есть не будут кого (Селигер. Ирон.) -‘о человеке, ставшем бесполезным, никому не нужным’ (ПФСРНГ). В белорусском языке также есть оборот сабата не лiжуць в значении ‘о большом количестве чего-л.’ Вообще, по всей видимости, эти фразеологизмы апеллируют к ситуации, которая трактуется как исключительная (отказ прожорливого, ненасытного животного от еды), и это удивление человека закрепляется в разных языках в форме устойчивого выражения. В то же время конкретное объяснение этой необычной ситуации может отличаться в различных языках, с чем связано несовпадение в значениях таких оборотов. Имеющийся в нашем распоряжении фразеологический материал не позволяет делать выводы об этимологии приведенных чешских и русских оборотов, однако очевидное межъязыковое соответствие позволяет отнести их к числу «потенциальных фразеологических интернационализмов» [Солодухо, 1982. С. 125] или фразеологических параллелей, которые «в родственных языках... несколько парадоксально^ могут в перспективе оказаться пересекающимися прямыми» [Мокиенко, 1975. С. 131].
Помимо оборотов со сходной образной основой и тематикой компонентов, которые составляют сравнительно небольшую группу, можно выделить несколько объемных групп ФЕ, схожих по тематике компонентов и общей логико-семантической мотивировке. Так, например, «благополучие» в чешских и русских фразеологизмах часто трактуется непосредственно через образы, связанные с деньгами : m^t bankal , mit tezky gros , ma penez , ze by jimi mohl oci vytnskat , gros na strechu hod^ a spadnou mu dva , moctpenezi dlazdit , nevedet co s penezi , oplyvat penezi , mit penez plnou prdel , sedet na pytli penez , topit se v penёz^ch и мести деньги веником ( Новг. ), жить в копейках ( Пск. ), жить с копеечкой ( Пск. ), заходить / зайти в богачество ( Пск. ), с гривенки на гривенку ступает , полтиную ворота подпирает ( Народн. ), тачка , дачка , да денег пачка ( да с кайформ жрачка ) ( Жарг. Мол. ), деньги шелестят у кого , деньги шевелятся у кого , денег девать некуда у кого.
Еще один характерный для чешских и русских образ, связываемый с материальным благосостоянием, - это образ хранилища (кошелька, сундука, кармана и под.): ma oteklou sraj-tofli , pytel se s tim roztrhl , pln^ se mesec и сундуки ломятся у кого ( Волг. ), прижимать сундук коленом ( Волг. ), у сусека дна не видать ( Прикам. ), карман толстый у кого ( Волг. , Том. ), в карманчике шумит у кого ( Пск. ), иметь толстый ( полный , тугой , сильный ) карман ( Волг. , Одесск. , Р. Урал. , Том. ), карман отвалился от денег у кого ( Моск. ), карман распухши у кого ( Пск. ), карманы денег у кого ( Амур. ), клепать карманы ( Пск. ), набить коробью , корыта серебром нарыта ( Петерб. ), набивать кошельки ( Пск. ), большой кошель ( Пск. ), набить каланду ( Яросл. ), денежный ( золотой ) мешок , толстая ( тугая ) мошна , денег у кого полная киса ( Вят. ), большая сума ( Нижегор. ).
Еще одна группа объединяет ФЕ, описывающие материальное благополучие человека через образ сытости (об этом см. также [Кнутова, 2016. С. 63-66]). В основе ряда чешских и русских фразеологизмов, изображающих хорошую, благополучную жизнь, лежит представление о том, что достаточно самого наличия еды, достатка еды, пусть даже самой простой. В данном случае можно говорить о сходстве логико-семантической мотивировки при отсутствии сходной образной основы, тематики компонентов и синтаксической модели: mit vetsi bochmk , je pri kase , byt pri m^se , velkou lz^ci j^dа , byt na krmn^ku и жить-поживать да хлебушко пожимать ( Смол. ), жить да есть ( Сиб. ), жить хлеб ( хлеба ) жевать ( Арх. ), и хлеба и к хлебу ( Волг. ), жить на кашу без худобы ( Краснодар. ), живут хорошо , а жуют всегда жить на хлебах ( Печор. ), жить ( быть ) на готовых харчах ( Печор. ), жить у хлеба ( Печор. ) .
Признаком особенно хорошей жизни русская и чешская фразеология признает жирную еду . В данном случае тематика компонентов совпадает: mastit si v krku , je mu s maslem , nanka na tuCnou polivku и сыр в масле ( Пск. ), кипеть в масле (Дон. ), жиристо жить / зажить ( Арх. ), бродить до локот ( локтей ) в масле ( Печор. ) .
Для русской фразеологии характерно связывать беззаботную обеспеченную жизнь также со сладкой едой : не жизнь , а малина ( Пск. ), разлюли малина ( Волг. ), мёд с сахаром ( Орл. ), киснуть / искиснуть в ( на ) меду ( Волг. , Прикам. ), калачики висятся у кого ( Том. ), лить мёд на голову ( Кар. ), ехать на меду ( Алт. ), одна нога в меду, другая в патоке у кого ( Новг., Пск. ) .
Кроме того, и в русской и в чешской фразеологии богатство может характеризоваться через сказочные, фантастические образы изобилия еды : litaji mu pecem holubi do huby , klobasou srazil plot slanin , ma tam raj na knedliky a blazenost na kolace и манна с неба ( с небес ) валится на кого ( Новг. , Пск. ), запирать ворота пирогами ( Волг. ), бродить по локоть в рыбе ( Печор. ), одна нога в меду , другая в патоке у кого ( Новг. , Пск. ) .
Среди чешских ФЕ целый ряд оборотов характеризует благополучную жизнь, в том числе материально обеспеченную, через образ какого-то уютного, теплого, безопасного места -убежища, глагольный компонент в этом случае обычно совпадает - sedet : sedet v dobrem dйlku , posadil se ( dostat se ) do dobreho ( tepleho ) hn^zda , sedi v teple ( v suchu ), sedet na mekkych poduskach , je tam dobre schovany , sedet hrbetem k ohni a brichem ke stolu. Эти чешские обороты можно соотнести с русскими: жить за Богородицей ( Волг. , Дон. , Печор .), жить [ себе ] у Бога в пазухе , у матушки (у отца-матушки ) за пазушкой ( Обл. ), жить как у Бога за дверью ( дверями , печкой , плечами , рамкой и др.) [Мокиенко, 1978. C. 157; Ивашко, 1975. C. 136]. Здесь, в отличие от чешских ФЕ, образная основа другая, но смысловая соотнесенность (трактовка благополучия через метафору безопасного и уютного места) очевидна.
Одна из структурно-семантических моделей, которая обращает на себя внимание в массиве русских диалектных фразеологизмов и не имеет параллелей среди чешских фразеологизмов, характеризует человека богатого и неприступного: чем - л . + НЕ ДОСТАНЕШЬ ( не до кинешь , НЕ КРЯКНЕШЬ , НЕ НАЕДЕШЬ ) + КОГО ( НА КОГО , ДО КОГО ): не крякнешь об земь кого , палкой не докинешь до кого , конём не наедешь на кого , рукой не достанешь до кого , не достать рога палкой кому . В буквальном смысле речь идет о человеке, над которым невозможно совершить насильственное действие, который находится вне досягаемости для говорящего. Как свидетельствуют пометы, эта модель характерна только для Волгоградских говоров. Сама синтаксическая конструкция продуктивна для образования фразеологизмов, но обычно с другими значениями, например, палкой не докинуть ( не докинешь ) - о чем-л. недостижимом, далеком; палкой не выкинешь до чего ( Вят .) - ‘о чем-л. далеком по времени (например, Рождестве); палкой не вытащишь кого откуда ( Омск .) (1970) - о невозможности выгнать кого-л. откуда-л.; палкой не докинешься до чего ( Влад .) - о том, что наступит нескоро, палкой не убьёшь ( не уколотишь ) кого ( Волог . и Перм .) - об очень здоровом, крепком, выносливом человеке.
Также среди русских ФЕ можно отметить ряд оборотов, в которых фразеологическая экспрессия достигается за счет тавтологии : добро жить ( живать , пожить ) ( Арх. ), жить-по-живать да добра наживать ( Фольк. ), жить в живости ( Орл. ), в своей жизни живу хорошо ( неплохо ) ( Алт. ) . , жить не нажиться ( Пск. ), жить - не тужить ( Арх. , Перм. ), жить в какой жизни ( Пск. ), жить житейски ( Арх. ), жить в зажитке ( в зажитках ) ( Омск. , Сиб. ), жить в прожитке ( в прожитках ) ( Волог. , Вят. , Кар. , Пск. ), жить дак жить ( Арх. ), жить в живности ( Печор. ), жить житейски ( Арх. ), разживать / разжить (розживать / роз-жить ) житьё ( Печор. ) . Среди чешских ФЕ подобных оборотов не встретилось.
Заключение
Подводя итог, прежде всего хотелось бы отметить, что благодаря включению в сопоставительное исследование диалектного материала удалость существенно обогатить картотеку ФЕ количественно и качественно. Именно благодаря диалектным оборотам появилась возможность увидеть некоторые системные особенности в каждом из рассматриваемых языков, понять логику отдельных синтаксических конструкций, принципы метафоризации однотипных оборотов. Сопоставление образной, логико-тематической составляющей устойчивых оборотов одного фразеосемантического поля подтверждает мысль Э. М. Солодухо о «закономерности, определенной предсказуемости... образования ФЕ, особенно в лексико-тематическом и тематико-семантическом отношениях» [Солодухо, 1982. С. 115]. В большинстве случаев обнаружить конкретные русско-чешские фразеологические параллели не удается, однако сам факт наличия в чешском и русском языках устойчивых оборотов, характеризующих богатство человека через один и тот же образ (например, образ животного или птицы, которые поедают (или отказываются есть) что-л.) переводит нас из плоскости синхронно-диахронических изысканий в плоскость логико-семиотическую и позволяет над собственно национальным увидеть логику общечеловеческого и ментального. В заключение также можно отметить, что межъязыковые расхождения в большей степени позволяют говорить об общих принципах, чем о различиях, которые обусловлены, скорее, собственно языковыми факторами.
Список литературы Чешские фразеологические параллели к русским диалектизмам (по материалам "Полного фразеологического словаря русских народных говоров")
- Грошева Т. Отражение национального мировидения в словообразовательном гнезде "богатый" (диалектный фрагмент) // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2008. № 12 (85). С. 214-217.
- Ивашко Л. А. Интеръязыковые и интердиалектные фразеологические связи // Тр. Самарканд. гос. ун-та им. А. Навои. Новая серия, вып. 288. Вопросы фразеологии IX. Самарканд, 1975. С. 133-138.
- Кнутова О. Отражение культуры еды в русских и чешских фразеологизмах: Магистр. дис. Brno: Masarikova Univerzita, 2016. URL: https://is.muni.cz/th/yoals/diplomova_prace_ Knutova.pdf (дата обращения 08.02.2019).
- Мокиенко В. М. Внутренняя логика фразеологизма и его происхождение // Studia Rossica Posnaniensia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1978. № 10. C. 155-161.
- Мокиенко В. М. Историческая фразеология: этнография или лингвистика? // Вопросы языкознания. 1973. № 2. С. 21-34.
- Мокиенко В. М. Фразеологические параллели и фразеологические изоглоссы в славянских диалектах // Тр. Самарканд. гос. ун-та им. А. Навои. Новая серия, вып. № 288. Вопросы фразеологии IX. Самарканд, 1975. С. 122-132.
- Ройзензон Л. И. Украинско-русские (сибирские) параллели и соответствия в области фразеологии // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1974. Вып. 3. С. 113-121.
- Солодухо Э. М. Проблемы интернационализации фразеологии (на материале языков славянской, германской и романской групп). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. 168 с.
- Федоров А. И. Фразеологический словарь русских говоров Сибири. Новосибирск: Наука, 1983. 232 c.
- Фойту П. Фразеологические интернационализмы в русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Оломоуц, 2013. URL: https://theses.cz/id/lfylu0/Petra_Fojtu.pdf (дата обращения 19.02.2013).
- Ядловский Т. Перевод безэквивалентных фразеологизмов (на материале русского и чешского языков) // Веснiк БДУ. Сер. 4. 2008. № 1. С. 28-32.
- Flajšhans V. Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. 2 svázky. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1911-1913.
- Čermák, Fr. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. Praha, LEDA, 2009, díl 3, 4.
- Mrhačová E. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice (tematický frazeologický slovník). Ostrava, Spisy Filozofické faculty Ostravské Univerzity, 1999, č. 124, 161 s.
- Zaorálek J. Lidová rčení. Reprint 1 vydání. Praha, Academia, 2000, 744 s.