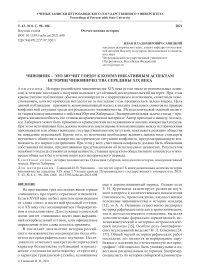Чиновник - это звучит гордо? К коммуникативным аспектам истории чиновничества середины XIX века
Автор: Савицкий Иван Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 8 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
История российского чиновничества XIX века (в том числе ее региональных аспектов) в течение последнего полувека вызывает устойчивый исследовательский интерес. При этом краеведческие публикации обычно ассоциируются с нарративным изложением, сюжетным повествованием, хотя историческая методология за последние годы продвинулась далеко вперед. Цель данной публикации - применить коммуникативный подход к анализу локальных сюжетов на примере конфликтной ситуации среди петрозаводского чиновничества. Методологической основой является теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса. Экспериментальная задача статьи - проверить жизнеспособность его тезисов на краеведческом материале. Автор приходит к выводу, что подход Хабермаса может быть применим к краеведческим исследованиям и анализу конкретных казусов. При этом источниковая база должна позволять анализировать коммуникацию между историческими персонажами или общественными, государственными институтами, показывать реакцию общества на поведение персонажей. Кроме того, из источника необходимо выявить ценностные стандарты изучаемого общества и конкретно-историческую ситуацию конфликта, предусматривающую возможность его мирного разрешения. При этом у всех участников конфликта должна быть обоснована собственная позиция, продиктованная представлениями об используемых ценностях. Результатом подобного подхода становится новая ценность, ставшая продуктом общественного консенсуса и жизнеспособная хотя бы в течение короткого исторического периода.
История чиновничества, олонецкая губерния, методология истории, коммуникативный подход, юрген хабермас
Короткий адрес: https://sciup.org/147236228
IDR: 147236228 | УДК: 94(470.22)"18":930.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.698
Текст научной статьи Чиновник - это звучит гордо? К коммуникативным аспектам истории чиновничества середины XIX века
На протяжении трех последних веков термин «чиновник» претерпел серьезные изменения. Если в XVIII веке он был простым производным от слова «чин» и носил нейтральный оттенок, то к XX веку стал ассоциироваться с бюрократизмом и подхалимством. Для служащего советской эпохи эпитет «чиновник» носил явно выраженный оскорбительный оттенок, хотя официальное определение этого слова осталось прежним.
В последнее десятилетие история российского чиновничества неоднократно была объектом историографического изучения. Исследователи отмечают конкретно-исторический характер большинства публикаций и продолжение следования негативному стереотипу о характере гражданской службы, заложенному
еще в дореволюционный период. Однако если Е. Н. Курочкина акцентирует развитие научного интереса к количественным показателям (численность, происхождение, имущественное положение чиновничества) и истории мундира [12], то А. А. Оспанова существенно расширяет историографическое поле как в хронологическом, так и методологическом отношении, выделяя дополнительно формально-юридический, источниковедческий и историко-антропологический подходы [15]. Особую роль биографических исследований выделяет Н. Л. Семенова [24: 151]. Общей чертой историографических работ последних лет является игнорирование зарубежного влияния на отечественную историо-графию1. «Не повезло» быть упомянутыми и известным региональным историкам (например, специалисту по истории сибирской администра- ции Н. П. Матхановой). Вопросу «есть ли жизнь за МКАДом» частично посвящена историографическая статья О. А. Плех, отметившей терминологический и методологический плюрализм региональных работ, затрудняющий применение их результатов в компаративистских исследованиях [19: 269]. Любопытно, что в случае «историографического сдвига» к близкому по сути объекту исследования – российскому дворянству – в историографических публикациях резко превалирует историко-антропологический подход (к сожалению, практически не затрагивающий вопросы о службе дворянства) [1], что говорит о недооцененности антропологического (не говоря уже о феноменологическом) подхода при изучении истории российского чиновничества.
В методологическом отношении важную роль играют наблюдения С. В. Любичанковского, известного структурно-функциональным подходом в изучении губернаторской власти и выделившего четыре этапа в изучении чиновничества [13: 30]. Развитие карельской региональной историографии по этому вопросу хронологически точно соответствует предложенной им схеме. Конечно, круг авторов по истории конкретного региона не столь обширен, зато современные специалисты, как правило, владеют разными методологическими подходами. Помимо обычного краеведческого нарратива в описании отдельных биографий и исторических казусов, в историографии дореволюционного чиновничества Олонецкой губернии выделяется структурно-функциональный подход В. В. Ефимовой (блестяще работающей и в более узком русле историко-юридического исследования) [5], [6] и работы московского историка О. А. Плех [18], [20], успешно анализирующей как институциональную, так и социальную сторону развития губернского чиновничества (в основном на основе формулярных списков)2. С этой темы в 1990-х годах начались исследования и автора данной статьи, прекращенные после перехода на госслужбу [22], [23].
Основа статьи была подготовлена к 2002 году и отложена автором в поисках новой методологии исследования. Цель настоящей публикации – применить коммуникативный подход к анализу локальных сюжетов на примере конфликтной ситуации среди петрозаводского чиновничества. Под коммуникативным подходом автор подразумевает взгляды крупнейшего современного немецкого философа Юргена Хабермаса, однако не ставит перед собой задачу составить полное представление о его многогранном творчестве3. Риск эксперимента связан не столько с его по- лидисциплинарностью, сколько с отсутствием у самого Хабермаса интереса к локальным историческим исследованиям и, соответственно, определенной умозрительностью методологической конструкции автора. Поэтому для чистоты эксперимента была выбрана ситуация относительно тихого конфликта, эмоционально выраженного лишь в письменных документах, не приведшего к серьезным последствиям ни одну из сторон и таким образом имевшего потенциал требуемого Хабермасом консенсуса через дискурс – своеобразную процедуру не продуцирования уже известных общественных норм, а верификации, проверки действенности норм новых, гипотетических. Рожденный Юргеном Хабермасом в споре с Лоренсом Коль-бергом идеальный дискурс – это столкновение нескольких точек зрения (обоснованных с разных, уже принятых в обществе методологических позиций), порождающее новые ценностные ориентиры [25: 182]4. Вероятно, это явление можно было бы назвать «моментом истины» или своеобразным «аксиологическим катарсисом».
Использование философских и социологических подходов давно стало для историков обычной практикой и сопровождается оптимистичным мнением о том, что синтез философии и исторической науки может дать эффективные результаты исследования [4: 78], [9]. Использование методологии Ю. Хабермаса в исторических исследованиях было предложено М. В. Рядинской (М. В. Берберих) еще десять лет назад [21], но не было адаптировано ею для изучения конкретно-исторических ситуаций в локальных исследованиях5. Данная статья призвана освоить методику подобной работы. При этом хотелось бы заранее предостеречь исследователей от некритического использования методологии Ю. Хабермаса. Так, известны его высказывания по проблемам понимания, для которого (по его мнению) необходимо не только наблюдение, но и участие [25: 44]. Неприемлемость такого подхода для историков очевидна и в лучшем случае будет способствовать возврату к сентиментализму.
***
Уровень контроля за деятельностью служащих в дореформенный период был довольно высок. Помимо ежегодного (вплоть до 1858 года) представления послужных списков в Сенат он распространялся и на личную жизнь чиновника. На протяжении всей первой половины XIX века служащим было категорически запрещено входить в какие-либо общественные организации (лишь за 1820-е годы как минимум дважды проводились проверки на непричастность чиновников к «тайным обществам»); некоторые категории служащих – военные чины, горные инженеры – не имели права вступать в брак без разрешения начальства. Частичная либерализация общественной жизни при Александре II привела к отмене ряда ограничений, и изменившиеся границы дозволенного служащие осваивали на практике.
Одним из методов такого освоения являлась обычная для служащего деятельность – составление различного рода текстов. Еще в конце 1820-х годов один из петрозаводских чиновников отмечал, что местные жители весьма склонны к просвещению.
«Крайне жаль, что сия охота к грамотности получила весьма вредное направление, ибо между здешними людьми господствует необыкновенная страсть к подаче просьб, большею частию затейных, и к хождению по судам. Едва ли где расходится столько гербовой бумаги, как здесь»6.
В Национальном архиве Республики Карелия сохранилось много материалов о борьбе властей с «затейными» бумагами. Особенно их раздражало умение подчиненных направлять жалобы через голову начальства – например, прямо министру внутренних дел. Их поток был настолько силен, что в губернской прессе пришлось поместить целую статью о правильном порядке подачи жалоб, которые «бывают так маловажны, что не должны были доходить не только до министерства, но даже и до губернского начальства»7.
В июне 1862 года в центральной газете «Сын Отечества» был опубликован очерк секретаря Олонецкой казенной палаты Андрея Корниловича Лазарева с описанием быта губернского начальства:
«В последнее время во всех наших журналах и газетах то и дело стали появляться со многих городов России корреспонденции, в которых описываются различные явления общественной жизни. Факт утешительный; он показывает, что у нас в России в провинциальных городах началось движение и общество, после долгой спячки, начало понемногу продирать глаза и знакомиться с прогрессом, хотя многим спросонья и кажется еще довольно странным, как осмелился этот непрошенный гость забраться, без доклада, прямо в спальню… Но несмотря на это обилие корреспонденций, есть много городов, которые ни одной печатной строкой не заявили участия их в общем движении и не прислали ни одной интересной весточки. К числу таких городов принадлежит и наш скромный, стоящий в захолустье Петрозаводск. Однако вы не думайте, что он не успел еще познакомиться с прогрессом и вовсе не принимает участия в решении современных вопросов. <…> Любовь к чтению у нас развивается не по дням, а по часам. От этой любви к чтению уже начали созревать плоды. Самые законченные рутинеры, которые считали своего подчиненного чуть не меньше нуля, и на поклон его отвечали одним движением бровей, теперь при встрече протягивают ему руку и выслушивают, хотя и с кислой гримасой, его замечания и суждения. В присутственных местах не стало больше раздаваться неистовых криков бюрократов: “Болван!.. дурак… ска-а-тина… Я выгоню тебя вон!..” и тому подобных милых выражений. Начальство стало попристальнее вглядываться в своих подчиненных и уже не отличает их по ловкости в танцах, по белизне перчаток и по уменью говорить милый вздор; наушничество и низкопоклонство быстро исчезают»8.
При чтении данного текста создается ощущение, что его автор был знаком с коммуникативной теорией родившегося ровно через 67 лет Ю. Хабермаса. Во-первых, А. Лазарев использовал понятие «общество» в значении «общественность», подразумевая под ним не просто население города, а активно коммуникатирующий слой людей, определяющий систему ценностей на местном уровне. Являясь государственным служащим, он воспринимал общество гораздо шире, чем требовалось его функциональными обязанностями. Позднее на допросе он признавался, что
«занимаясь в свободное от служебных занятий время литературой, я посещал публичные собрания, гулянья, концерты и проч. с целью подметить что-либо новое, характеризующее современное состояние общества»9.
Во-вторых, он сходу определил уровень развития данного общества, отмечая у него интенсивное развитие любви к чтению. Это соотносится с результатами изучения творчества Ю. Хабермаса отечественными исследователями, выделяющими в теории немецкого философа несколько стадий развития общества; третья стадия – «общественность читающая» – служит началом интенсивного развития общественной коммуникации и относится в Европе ко второй половине XVII – началу XVIII века [21: 161] (расхождение времени изучаемого сюжета с европейской системой координат вряд ли должно смущать исследователей, привыкших к традиционно неравномерному развитию ценностей на европейском континенте). Наконец, объектом интереса Лазарева стала коммуникативная культура провинциального чиновничества, что делает его текст идеально подходящим для применения хабермасовской методологии. К сожалению, эмоциональная волна привела губернского секретаря к критической рефлексии.
«Однако же вы не подумайте, что наш Петрозаводск превратился в счастливую аркадию, и что мы, по милости прогресса и гласности, сделались чистыми и непорочными, как дети, нет, у нас имеются еще свои Хлестаковы, Муходавлевы, Чичиковы, в лице Фертов, Кушелей,
Мышеловских, Козлов и Дубов, которые всякое проявление живой мысли считают за нарушение религии, правду – за дерзость»10.
А. Лазаревым упоминались реальные, чуть измененные фамилии (например, полковника корпуса жандармов князя А. А. Мышецкого). Стремление автора к работе с понятиями делает ему честь, однако публичное сравнение коллег с гоголевскими персонажами уже могло расцениваться ими как дерзость. В добавление ко всему сказанному Лазарев рассказал о махинациях при распределении средств от благотворительного концерта.
Ответ на статью был напечатан в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Анонимный автор представил собственную картину происшедшего, отрицая нарушения в распределении средств и показывая, что пишущий «не потрудился собрать более верных сведений о предметах, которые взялся передать во всеуслышание»11. Лазарев ответил более подробным описанием злоупотреблений, указывая на выпуск более 6200 лотерейных билетов благотворительной лотереи вместо заявленных 4000, а также полугодовое исчезновение части денег, предназначенных для нужд бедных. В завершение чиновник разразился гневной характеристикой в адрес нечистых на руку служащих12, явно не ощущая надвигающейся на себя опасности.
Стремление служащего «заявить участие в общем движении» вызвало вполне логичное желание начальства «вглядеться попристальнее» в своего подчиненного. Его первая статья была принята молча, зато по приведенным данным из второй публикации было начато следствие. А. Лазарев был приглашен на квартиру самого губернатора – генерал-майора Александра Александровича Философова и подробно расспрошен об источниках информации о махинациях. О факте беседы известно только со слов А. А. Мышецкого, считавшего публикации А. Лазарева способом очернить начальника губернии, позиции которого в столице не были прочными13. Подробное содержание беседы неизвестно, однако полноценного столкновения двух позиций на тот момент не получилось – автор нашумевших статей в качестве источника информации о махинациях ссылался только на слухи. На допросе у следователя он признавался, что «вслушивался в суждения, разговоры, замечания людей совершенно даже мне незнакомых, собирая тем материалы для задуманного мною литературного сочинения», считая глас народа гласом Божиим14.
Таким образом, эйфория от либерализации общественных отношений в стране привела в со- знании молодого чиновника к ослаблению критического отношения к используемым материалам. Складывающееся представление о свободе как о возможности безответственного отношения к печатному слову буквально анестезировало чувство опасности. В итоге из-за письменного распространения слухов А. Лазарев был обвинен в клевете и отдан под суд.
На момент начала конфликта А. Лазареву было 33 года. Он воспитывался в Курском землемерном классе и с 1857 года работал петрозаводским уездным землемером. Два брака не принесли в семью детей. После увольнения в отставку по болезни в 1860 году он вновь поступил на службу в 1861 году, воспользовавшись льготами при устройстве на работу в Олонецкой губернии. Вниманием общественности обделен не был; происходя из податного сословия, А. Лазарев стал членом Петрозаводского Благородного собрания. Что же сподвигло его поставить под удар свое общественное положение? Мотивацию внешне иррациональных действий А. Лазарева можно попытаться объяснить с позиции коммуникативного подхода. По мнению Ю. Хабермаса,
«целенаправленное действие может быть названо рациональным только тогда, когда деятельность актора соответствует условиям, которые необходимы для осуществления замысла с успехом осуществить вмешательство в мире» [27: 315].
Благодаря александровским реформам и ослаблению цензуры определенные условия для публикации статьи А. Лазарева действительно сложились, и на момент 1862 года вполне могло казаться, что публикация в центральной прессе способна стать звеном в цепи улучшений общественной жизни. При этом начальство губернии вовсе не собиралось разочаровывать в этом автора; неизвестно, какие воспитательные беседы вело с А. Лазаревым его непосредственное руководство, однако рациональная позиция губернатора А. А. Философова состояла лишь в пресечении конкретных противозаконных действий чиновника.
Безусловно, публикация могла иметь совсем другие последствия, если бы автор воздержался от критики существовавших порядков и создал называемый Ю. Хабермасом «резерв обоснования», способствующий достижению рационально мотивированного согласия [27: 316]. Внешне это по сей день выражается в визировании публикации служащего вышестоящим начальством, но главное содержательное свойство должно было заключаться в демонстрации положительных черт общественной жизни. Созда- ние присутствий по крестьянским делам могло стать поводом по-новому посмотреть на роль профессионального «бюрократа», однако А. Лазарев по сути транслировал негативные впечатления из дореформенной жизни. Играя на контрасте с предыдущим периодом, он слишком вяло показал положительные изменения в служебной деятельности. Забегая вперед, это можно объяснить малым объемом имеющегося у него материала, ведь на момент публикации статьи не существовало ни земских, ни городских собраний, а в Олонецкой губернии после 1841 года не функционировало и губернское дворянское собрание. На таком фоне малейшее общественное изменение спровоцировало творческий подход чиновника к своей служебной деятельности.
Однако наиболее точно мотивацию А. Лазарева можно выявить благодаря коммуникативному подходу Ю. Хабермаса. Говоря об «узлах коммуникации», необходимо определить средства массовой информации как один из «узлов», транслирующих свои ценностные представления на читающую аудиторию того периода. И А. Лазарев интуитивно стремился стать первым таким «транслятором», первооткрывателем новостей общественной жизни Олонецкой губернии, создав вокруг себя авторитет светского эксперта. В неофициальной части «Олонецких губернских ведомостей» эту роль играли исторические и путевые публикации П. Рыбникова и К. Петрова. В них была сильная сторона – своей внешней бес-проблемностью они могли способствовать «рациональному согласию», однако часть газетной аудитории ожидала более острых сюжетов. Эту нишу и стремился занять Лазарев. В какой-то степени это удалось, если его материал оказался интересен спустя полтора столетия. Однако независимо от результата его, по сути, журналистской деятельности, в его служебные функции это не входило и не могло поощряться в профессиональной среде.
Тем не менее общество не было единым в отношении данного поступка. Помимо некоторых коллег по работе, на сторону чиновника Казенной палаты встал судебный следователь Малиновский, отметивший отсутствие указаний в статье на конкретные фамилии, жалоб от пострадавших и ответный характер второй публикации А. Лазарева, вынужденного оправдываться от обвинения в клевете. По мнению следователя, «в равной степени заслуживает расследования и тот неизвестный автор, который вызвал Лазарева к ответу»15. Попутно выяснилось, что А. Лазарев страдал пороком сердца.
Палата уголовного и гражданского суда отвергла доводы Малиновского, так как губерна- тор видел в поступке А. Лазарева прежде всего выступление «противу мест правительственных», а вычислить личности «пострадавших» не составляло большого труда. Однако дело растянулось более чем на год, его материалы составили два тома. Общество колебалось; в мае 1863 года губернский секретарь А. Лазарев был назначен младшим, а уже в августе – старшим чиновником особых поручений при новом губернаторе Юлии Константиновиче Арсеньеве16, сразу направившем молодого правдоруба в комиссию для распределения денежных средств (в числе ее членов был и князь Мышецкий, в августе того же года уволенный со службы с повышением в чине генерал-майора)17. Лично знакомый с М. Ю. Лермонтовым в последний год жизни поэта, сам до этого служивший чиновником особых поручений при министре внутренних дел, активный сторонник освобождения приписных крестьян и развития просвещения в губернии [11: 66–69], Ю. К. Арсеньев оказался для провинциального либерала настоящим спасением. Описанные в статьях А. Лазарева слухи о махинациях частично подтвердились. В феврале 1864 года он был назначен помощником Петрозаводского уездного исправника, а через десять дней палата гражданского и уголовного суда признала А. Лазарева невиновным, постановив «предоставить его начальству внушить ему на время быть осмотрительнее в литературных своих произведениях»18. Общественный консенсус был найден: государственный служащий подтвердил свое право на публичное высказывание своего мнения без согласования его с началь-ством19. Сам губернатор на тот момент был в отъезде, лично встречался с императором и в ходе судебного процесса участия не принимал.
А. Лазарев был не единственным, кто размышлял в местной прессе о роли чиновников. Так, краеведческая деятельность члена Олонецкого статистического комитета Константина Михайловича Петрова была хорошо известна и не вызывала сомнений в благонадежности, что позволило ему в ноябре 1862 года излить душу в своих этнографических записках на страницах «Олонецких губернских ведомостей» (его статьи публиковали также газета «Русский дневник» и журнал «Лучи» [17: 352]).
«Известно, – писал он, – как трудно добиться каких-нибудь верных сведений от народа “барину”, и тем более чиновнику. Его звание, подорожная, вся обстановка его езды как-то не внушают к нему народного доверия; крестьянин всегда склонен к подозрению, что у чиновника есть пожалуй какое-нибудь “касательное” до него дело, а если касательного дела и нет, то самая личность чиновника, его понятия, его привычки делают его чужим для крестьянина»20.
Однако негативная коммуникация – тоже коммуникация, и автор смотрел на нее достаточно оптимистично. Чтобы преодолеть народное недоверие, по его мнению,
«надо носить в себе уважение к самостоятельности религиозных верований народа, к особенностям его быта, к тяжкому труду землепашца, работника и ремесленника, и отбросить в сторону некоторые кабинетные предрассудки и барские замашки».
Для наблюдательного автора это был максимум в описании отношения народа к государству, в котором власть привычно использовала лишь контролирующие и репрессивные механизмы. Литературный стиль и уважение к описываемым объектам подстраховывали его от любых «барских замашек» цензуры, показывая, что опытный автор не нуждается в эпатаже.
Таким образом, несколько лет после отмены крепостного права дали возможность гражданским служащим использовать прессу в качестве проводника своих мыслей и настроений. Этот период был недолгим. Вскоре после окончания суда над А. Лазаревым, 29 августа 1864 года был подписан циркуляр начальникам губерний, запрещавший помещение в прессе статей полемического содержания. При этом олонецким губернаторам о нем напоминали персонально (подробнее об усилении контроля за губернской прессой см. [28]). Государству были не нужны результаты общественной работы по созданию социального консенсуса; оно решило пойти привычным путем и подменить его результатами подавления общественной активности.
ВЫВОДЫ
Таким образом, коммуникативный подход может быть применим к краеведческим исследованиям с анализом их конкретных казусов. Однако каковы конкретные условия для его использования? На основе изложенного материала представляется возможным выделение нескольких условий применения теории коммуникативного действия при изучении конкретно-исторических ситуаций.
Во-первых, источниковая база должна позволять анализировать коммуникацию как между историческими персонажами, так и государственными, общественными институтами, показывать реакцию современного изучаемому объекту общества на его поведение, являющееся своеобразным коммуникативным действием. Без этого невозможна та интерсубъективность, которую Ю. Хабермас определил как самосознание через «возвращение к самому себе» из взаимоотношений с другими [25]. Поэтому для историка в первую очередь необходимо изучение реакции аутентичного историческому объекту общества, с которым у объекта исследования осуществлялась прямая коммуникация.
Во-вторых, источник должен выявлять ценностные стандарты изучаемого общества. Ю. Хабермас делает акцент на эмоциональную составляющую используемых текстов [26: 254– 255], но понятно, что на это направление работает вся его идея интерсубъективности. Вполне естественно, что для исследования представляют интерес те ценности, которые характерны для определенных общественных групп – профессиональных, сословных, возрастных, гендерных. При этом индивид под влиянием общественных и психологических факторов может не принадлежать, но претендовать на принадлежность к определенной общности, доказывая это своими коммуникативными действиями, которые не только отражают его собственную позицию, но и провоцируют общество на ответ, тестируют устоявшиеся в конкретной общественной группе ценности на прочность.
Наконец, при работе с источниковой базой необходимо не просто выявлять действующие ценностные нормы, изначально заданные источником. Для создания дискурса источник должен содержать конкретно-историческую ситуацию конфликта, предусматривающую возможность его предпочтительно мирного разрешения. При этом у всех участников конфликта изначально обоснована собственная позиция, продиктованная представлениями об используемых ценностях. Результатом подобного подхода становится новая ценность, являющаяся продуктом общественного консенсуса и жизнеспособная хотя бы в течение короткого исторического периода.
Список литературы Чиновник - это звучит гордо? К коммуникативным аспектам истории чиновничества середины XIX века
- Баринова Е. П. Дворянство России второй половины XIX - начала XX века: современная историография // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 3-2. С. 548-557.
- Вербилович О. Е. Теория коммуникативного действия: ключевые категории и познавательный потенциал // Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2013. С. 35-52.
- Виноградова Т. В. Делопроизводство губернских административных учреждений в первой половине XIX в.: В 3 ч. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014.
- Губбыева З. О. Бюрократия в российской философии истории // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2007. № 5 (40). С. 73-79.
- Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в системе органов государственной власти и управления Российской империи (1820-1830 гг.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 832 с.
- Ефимова В. В. О причинах и последствиях конфликта губернатора А. А. Философова с губернскими чиновниками // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 8. В печати.
- Каменев Е. В. «Сыны отечества»: к вопросу о формировании декабристской идеологии // Россия XXI. 2012. № 5. С. 74-101.
- Каменев Е. В. Понятие «закон» в мировоззрении декабристов // Россия XXI. М., 2013. № 6. С. 74-103.
- Кимелев Ю. А. Методология исторического познания // Метод. 2011. № 2. С. 107-131.
- Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Концепция общества Юргена Хабермаса // Современные социологические теории общества. М.: ИНИОН РАН, 1996. С. 80-106.
- Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Биографический справочник. Петрозаводск: Паритет, 2006. 100 с.
- Курочкина Е. Н. Российское чиновничество XIX века. Эволюция историографических подходов // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. № 2 (49). С. 276-280.
- Любичанковский С. В. Развитие новых подходов к изучению института губернаторства конца XIX - начала XX в. в современной отечественной исторической науке // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 2 (27). С. 30-35.
- Марков Б. В. Мораль и разум // Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. С. 287-377.
- Оспанова А. А. Изучение чиновничества в российской исторической науке // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, № 3 (2). С. 499-502.
- Пайпс Р. Русская революция. М.: Росспэн, 1994. Ч. 1. 397 с.
- Пашков А . М . К. М. Петров - исследователь Вытегорского края // Вытегра: Краеведческий альманах. Вологда: Русь, 1997. Вып. 1. С. 351-374.
- Плех О. А. Численность и состав служащих Олонецкой губернии в первой половине XIX в.: источники и их интерпретация // История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. М., 2019. С. 441-449.
- Плех О. А. Провинциальное чиновничество России в первой половине XIX в.: отечественная историография конца XX - начала XXI в. // Вопросы истории. 2019. № 11. С. 258-272.
- Плех О. А . Состав чиновничества Олонецкой губернии в первой половине XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42, № 2. С. 58-69. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.450
- Рядинская М. В. Хабермас и коммуникативный подход как новая методология исторического познания // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2010. № 2 (18). С. 159-165.
- Савицкий И. В. О численности и составе дворянства Европейского Севера России первой половины XIX в. (По материалам Олонецкой губернии) // Вопросы истории Европейского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 120-126.
- Савицкий И. В. Чиновничество Олонецкой губернии в XIX - нач. XX вв. // Интеллигенция. Провинция. Отечество: проблемы истории, культуры, политики. Иваново: ИвГУ, 1996. С. 102-104.
- Семенова Н. Л. Местное управление в Российской империи в первой половине XIX в.: проблемы современной историографии // Россия в войнах и локальных военных конфликтах ХХ - начала XXI в. Стерлитамак: Башкирский государственный университет, 2019. С. 150-159.
- Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. 377 с.
- Хабермас Ю. Спектр критикуемых выражений // Личность. Культура. Общество. 2003. Т. V. Вып. 1-2 (15-16). С. 254-263.
- Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Личность. Культура. Общество. 2002. Т. IV. Вып. 3-4 (13-14). С. 303-320.
- Шевцов В. В. Правовое положение официальной губернской прессы в системе периодической печати Российской империи // Былые годы. Российский исторический журнал. 2014. № 34 (4). С. 572-581.
- Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. XVIII - начало XX в. СПб.: Искусство - СПБ, 2001. 479 с.
- Pintner W. The social characteristics of the early nineteenth century Russian bureaucracy // Slavic Review. 1970. Vol. 29. № 3, Sept. P. 429-443.