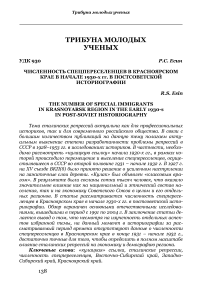Численность спецпереселенцев в Красноярском крае в начале 1930-х гг. в постсоветской историографии
Автор: Есин Р.С.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: Трибуна молодых ученых
Статья в выпуске: 3 (13), 2019 года.
Бесплатный доступ
Тема сталинских репрессий актуальна как для профессиональных историков, так и для современного российского общества. В связи с большим количеством публикаций на данную тему полагаем актуальным выяснение степени разработанности проблемы репрессий в СССР в 1928-1953 гг. в исследованиях историков. В частности, необходимо рассмотреть «кулацкую ссылку» начала 1930-х гг., в рамках которой происходило перемещение и выселение спецпереселенцев, осуществлявшееся в СССР во второй половине 1931 - начале 1932 г. В 1927 г. на XV съезде ВКП(б) было принято решение о усиленном наступлении на зажиточные слои деревни. «Кулак» был объявлен «классовым врагом». В результате были сосланы сотни тысяч человек, что оказало значительное влияние как на национальный и этнический состав населения, так и на экономику Советского Союза в целом и его отдельных регионов. В статье рассматривается численность спецпереселенцев в Красноярском крае в начале 1930-х гг. в постсоветской историографии. Обзор ограничен основными отечественными исследованиями, вышедшими в период с 1991 по 2004 г. В заключение статьи делается вывод о том, что несмотря на изученность отдельных аспектов избранной темы, на данный момент в историографии за рассматриваемый период времени отсутствуют данные о численности спецпереселенцев в Красноярском крае в конце 1931 - начале 1932 г., достаточно точные для того, чтобы определить в полном масштабе влияние сталинских репрессий на экономику и демографию региона.
"кулацкая" ссылка, сталинские репрессии, численность спецпереселенцев, восточно-сибирский край, западно- сибирский край, красноярский край
Короткий адрес: https://sciup.org/140245749
IDR: 140245749 | УДК: 930
Текст научной статьи Численность спецпереселенцев в Красноярском крае в начале 1930-х гг. в постсоветской историографии
В последние годы в российском обществе все большую популярность набирает личность И.В. Сталина. Как показал опрос ВЦИОМ 2017 г., 62 % россиян согласны с тем, что необходимо размещение в публичных местах бюстов, картин и досок с информацией о достижениях Сталина, а против сообщений о неудачах и преступлениях Иосифа Виссарионовича высказалось 65 % граждан [1].
С именем Сталина неразрывно связаны почти три десятилетия истории развития Советского Союза. В современной историографии 1930– 1950-е гг., как правило, рассматриваются в рамках мобилизационной модели. Одним из важных компонентов этой модели являлся принудительный труд, который напрямую был связан с массовыми репрессиями. В оценке мобилизационной модели развития до сих пор сохраняется дискуссионность [2].
Плюрализм мнений свидетельствует о необходимости более точного историко-философского осмысления репрессивной политики сталинизма и ее взаимосвязи с экономической политикой в СССР в 1930-е гг.
Данному осмыслению будет способствовать анализ численности сосланных «кулаков», которые в разное время назывались спецпереселен-цами, трудпоселенцами и спецпоселенцами [3, с. 18; 4, с. 3].
История спецпоселенчества началась в 1929 г., когда на спецпоселе-ние были отправлены первые партии «кулаков» и «подкулачников» [5, с. 3].
В 1930–1931 гг. в СССР было выселено с отправкой на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека [6], часть которых была сослана на территорию Красноярского края, а часть отправлена в «ссылку внутри данного региона».
30 августа 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило «Инструкции о порядке дальнейшего выселения кулацких семейств», в которых предписывалось: «выселение кулацких хозяйств из районов сплошной коллективизации в массовом порядке прекратить» [7, с. 31]. К этому моменту процесс формирования основного контингента в местах поселений в целом завершился.
Мы разделяем точку зрения С.А. Красильникова о том, что к 1932 г. массовые депортации крестьянства, затрагивающие все регионы страны, закончились [8, с. 44–45]. Следовательно, процесс концентрации спец-контингента в местах спецпоселений завершился. Это позволяет оценить их численность в региональном масштабе.
В отечественной историографии сталинских репрессий выделяются советский (с 1930-х до 1990-х гг.) и постсоветский (с 1991 г. по настоящее время) этапы [9, с. 131].
В данной статье рассматривается часть второго этапа. В 1991 г. в историографии произошли достаточно радикальные изменения, связанные с такими историческими событиями, как распад СССР и образование РФ, а также появление указов «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. и «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г. Кроме того, в 1992 г. были сняты ограничительные грифы и началась «архивная революция» [10, с. 239].
В 2004 г. вступил в силу новый Закон об архивном деле в Российской Федерации, а в 2006 г. последовал совместный приказ Министерства культуры, МВД и ФСБ о порядке доступа к делам репрессированных. Этими актами был наложен запрет исследователям на доступ к личным делам репрессированных на срок 75 лет [11, с. 242–243]. В 2009 г. началось «Архангельское дело» против создателей книг памяти по российским немцам [12, с. 242–243].
Таким образом, по оценке В.М. Кириллова, на этом период «архивной революции» завершился. Поскольку на этом этапе произошло уже- сточение архивной политики и это не могло не отразиться на историографии. Поэтому исследования, опубликованные на втором этапе, после 2004 г., целесообразно рассматривать отдельно, это не входит в задачу данного исследования.
Во второй половине 1931 - начале 1932 г. Красноярский край не являлся отдельным регионом. С 11 августа 1930 г. основная часть территории края относилась к Восточно-Сибирскому краю [13, С. 39], и только после 7 декабря 1934 г. он стал самостоятельным [14, С. 255].
В силу названных обстоятельств сведения о численности спецпере-селенцев по Красноярскому краю за этот период включены в численность спецпереселенцев по Восточно-Сибирскому краю. А данные по трем районам (Шарыповский, Боготольский и Тюхтетский) современного Красноярского края, входившим с 1930 по 1934 г. в ЗападноСибирский край, включают сведения по этому региону.
С началом «архивной революции» появляются первые работы, в которых исследовалась численность спецпереселенцев, находившихся в Красноярском крае во второй половине 1931 - начале 1932 г.
Одним из первых ранее засекреченные сведения о численности спецпереселенцев в 1930-е гг., как в общесоюзном, так и в региональном масштабе, ввел в научный оборот В.Н. Земсков. По его данным, в Восточной Сибири на 1 января 1932 г. насчитывалось около 92 тыс. спецпе-реселенцев [15, с. 122].
В 1990-е гг. тему спецпереселенцев изучал В.Я. Шашков. Согласно его исследованию, на 1 сентября 1931 г. число высланных семей в процессе раскулачивания в СССР в 1930–1931 гг. в Восточной Сибири насчитывалось 9 077 семей (46 287 человек). Кроме того, он привел сведения о количестве «раскулаченных» и высланных семей в Восточной Сибири на 20 сентября 1931 г. - 14 508 семей (73 111 человек) [16, с. 140,143].
Сибирские ученые также исследовали проблему спецпереселенцев. Так, С.А. Папков приводит данные о том, что в течение 1930–1931 гг. ОГПУ переселило в Восточную Сибирь 25 348 семей (91 714 человек) [17, с. 72].
В начале 1990-х гг. вышел сборник ранее не публиковавшихся документов о спецпереселенцах Западной Сибири из рассекреченных фондов новосибирских архивов. Архивные данные, содержащиеся в данном сборнике, позволяют вскрыть механизм формирования и функционирования системы спецпоселений, а также оценить масштабы применения принудительного труда этой разновидности спецконтингента в регионе [18]. Однако в этих документах лишь фрагментарно отражена численность «кулаков», сосланных в Красноярский край, поскольку ЗападноСибирский край включал в себя только три района современного Красноярского края.
В преобладающем числе исследований, опубликованных в начале 2000-х гг., численность спецпереселенцев рассматривается в территориальных границах, существовавших в 1930-е гг. регионов СССР. Выделялись только Западно- и Восточно-Сибирский края.
Так, П.М. Полян пишет, что в 1931 г. намечалась высылка в Восточную Сибирь, но ее масштабы в документах не указывались. В общей сложности ЦК поручил ОГПУ сослать более 200 тыс. семей. Однако это оказалось технически невозможно (110 тыс. семей разместили в различных регионах). Исследователь не указывает, что стало с оставшимися 90 тыс. семей [19, с. 72]. Также исследователь приводит данные о численности спецпереселенцев за 1931 г. совокупно по Сибири, Уралу, Северному краю и Казахской ССР – 1 230 тыс. человек [20, с. 245].
Пожалуй, одним из наиболее полных исследований, затрагивающих вопросы численности высланных спецпереселенцев в общесоюзном масштабе, является монография В.Н. Земскова «Спецпереселенцы в СССР. 1930–1960». Однако по Восточно-Сибирскому и ЗападноСибирскому краю новые данные о численности спецпереселенцев приведены не были [21, с. 22].
В монографии Н.А. Ивницкого данные о численности спецпересе-ленцев указаны к началу 1932 г.: по Западно-Сибирскому краю – 265 846 человек и Восточно-Сибирскому краю – 91 720 человек [22, С. 71].
С.А. Красильников приводит численность спецпереселенцев на 1 января 1932 г.: в Западной Сибири: – 265 тыс. человек и Восточной – около 92 тыс. человек [23, с. 211].
По данным О.В. Корсаковой, в конце 1931 г. на территории Красноярского края (по административному делению на 1934 г.) находилось около 30 тыс. семей спецпереселенцев, или около 130 тыс. человек [24, с. 200].
В рассмотренных выше исследованиях можно выделить три основных параметра.
Во-первых – это территориальные границы исследования. В большинстве публикаций приводятся данные в рамках границ Восточной Сибири: у В.Н. Земскова, С.А. Красильникова и Н.А. Ивницкого и в диссертации В.Я. Шашкова. Численность спецпереселенцев в рамках границ Красноярского края указана только у О.В. Корсаковой. П.М. Полян пишет о том, что в Восточную Сибирь планировали ссылать спецпересе-ленцев и приводит совокупные данные совместно по нескольким крупным регионам.
Во-вторых, есть различия и в датах, на которые показано количество спецпереселенцев. У П.М. Полян это 1930–1931 гг., у О.В. Корсаковой – конец 1931 г., у В.Я. Шашкова – на 1 и 20 сентября 1931 г., у В.Н. Земскова, С.А. Красильникова и Н.А. Ивницкого – 1 января 1932 г.
В-третьих, имеются расхождения в общей численности спецпересе-ленцев. П.М. Полян указывает численность – 1 230 тыс. человек, О.В. Корсакова – около 130 тыс. человек; В.Н. Земсков, С.А. Красильников и Н.А. Ивницкий около 92 тыс. человек; В.Я. Шашков – 46 287 и 73 111 человек.
Наибольшая численность спецпереселенцев, приведенная П.М. Полян, связана с более широкими территориальными границами, в рамках которых исследователь указывает данные. Наименьшую численность приводит В.Я. Шашков, вероятно, потому, что указанные им данные относятся к периоду, когда процесс концентрации спецпереселенцев в регионах еще не завершился.
Таким образом, можно констатировать, что в историографии рассматриваемого периода сведения о численности спецпереселенцев существенно разнятся по ряду параметров.
Практически всех авторов объединяет то, что они рассматривают численность спецпереселенцев в границах одного административнотерриториального образования. У В.Н. Земскова, С.А. Красильникова, Н.А. Ивницкого и у В.Я. Шашкова данные о численности ссыльных «кулаков» приводятся в рамках Восточно-Сибирского края.
Однако, если В.Н. Земсков, С.А. Красильников и Н.А. Ивницкий указывают численность спецпереселенцев – около 92 тыс. чел., то В.Я. Шашков приводит разную численность в динамике, на две даты 1931 г.: на 1 сентября 46 287 и 20 сентября 73 111 человек.
Несовпадение количественных показателей у разных авторов вызвано и тем, что В.Я. Шашков указывает сведения о численности спец-переселенцев на 1 и 20 сентября 1931 г., а В.Н. Земсков, С.А. Красильников и Н.А. Ивницкий – на 1 января 1932 г.
По-видимому, это связано с тем, что численность спецпереселенцев с течением времени менялась из-за побегов, смертности и прибытия новых депортированных крестьян в течение второй половины 1931 – начале 1932 г. Кроме того, вполне вероятно, что такое несовпадение связано с высылкой спецпереселенцев в Восточную Сибирь в 1931 г., о которой пишет П.М. Полян, но не приводит точных цифр. Можно предположить, что масштаб этой ссылки и стал причиной различия в численности.
Если это предположение верно, то численность спецпереселенцев, прибывших в Восточную Сибирь в период с 1 по 20 сентября 1931 г., составила около 26–27 тыс. человек. Впоследствии с 20 сентября 1931 г. по 1 января 1932 г. в Восточную Сибирь прибыло еще около 19 тыс. человек.
Необходимо отметить, что такой подсчет не совсем корректен, так как нужно учитывать смертность и побеги с мест спецпоселений и т. п.
Наиболее полно вопрос численности спецпереселенцев в Красноярском крае в указанный нами период рассмотрен О.В. Корсаковой.
Существенным упущением, на наш взгляд, является то, что в рассмотренных выше публикациях нет разбивки численности спецпересе-ленцев по отдельным населенным пунктам рассматриваемого региона.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в рассмотренной историографии отсутствуют точные данные о численности спецпе-реселенцев в Красноярском крае в конце 1931– начале 1932 г.
Остающиеся статистические «лакуны» не позволяют оценить точную численность спецпереселенцев в крае на момент завершения процесса массовой высылки в регионы Сибири. Это, в свою очередь, препятствует определению влияния спецпереселенцев на демографическую ситуацию в регионе, а также подсчету количества работоспособного населения, находившегося в Красноярском крае во второй половине 1931 – начале 1932 г.
Выявленные несоответствия свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования такого явления, как «кулацкая ссылка» в Красноярском крае и в том числе в отдельных районах, которые вошли в состав края в 1934 г.
Решение этой проблемы позволит установить общее количество рабочих, прибывших в конкретные населенные пункты Красноярского края в начале 1930-х гг. В свою очередь, это позволит дать оценку роли принудительного труда в народном хозяйстве данного региона.
Установление численности спецпереселенцев будет способствовать осмыслению механизмов функционирования «мобилизационной модели» развития и одного из ее важнейших компонентов – репрессивной политики, как в масштабах страны, так и на региональном уровне.
С. 71.
Список литературы Численность спецпереселенцев в Красноярском крае в начале 1930-х гг. в постсоветской историографии
- Память о Сталине: за и против // ВЦИОМ: официальный сайт. - URL: https://wciom.ru/?id=236&uid=116323/ (дата обращения: 30.06.2019 г.).
- Кирилов В.М. Принудительный труд в СССР: историографический аспект // Уральский исторический вестник. - 2017. - № 3. - С. 81-90.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. - М., 2003. - С. 18.
- Бердинских И.В. Особенности формирования инфраструктуры системы спецпоселений в СССР в 1930-1940-х гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. - Ижевск, 2007. - С. 3.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документации НКВД - МВДСССР) // Социс. - 1990. - С. 3.
- Там же.
- Бердинских В.А., Бердинских И.В., Веремьев В.И. Система спецпоселений в Советском Союзе 1930-1950-х годов. История политических репрессий в Евразии: страны, народы, эпохи. - Сыктывкар, 2015. - Вып. 2. - С. 31.
- Красильников С.А. Массовые и локальные высылки крестьянства Западной Сибири в первой половине 30-х годов // Гуманит. науки в Сибири. - 2000. - № 2. - С. 44-45.
- Степанов М.Г. Сталинская репрессивная политика в СССР (1928-1953 гг.): взгляд советской историографии // Известия Алтайского государственного университета. - 2008. - С. 131.
- Кириллов В.М. Историография и методология изучения проблем истории политических репрессий в СССР //Ежегодник МАИИКРН. - 2016. - № 2. - С. 239.
- Кириллов В.М. Историография и методология изучения проблем истории политических репрессий в СССР // Ежегодник МАИИКРН. - № 2. - 2016. - С. 242-243.
- Бердинских В.А., Бердинских И.В., Веремьев В.И. Система спецпоселений в Советском Союзе 1930-1950-х годов. История политических репрессий в Евразии: страны, народы, эпохи. - Сыктывкар, 2015. - Вып. 2 - С. 9.
- Красноярье: пять веков истории. - Красноярск, 2006. - С. 39.
- История Красноярской партийной организации / Н.П. Силкова, Л.М. Балашов, Е.А. Елисеев [и др.]. - Красноярск, 1982. - С. 255.
- Земсков В.Н. Судьба "кулацкой ссылки" (1930-1954 гг.) // Отечественная история. - 1994. - № 1. - С. 122.
- Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьба спецпереселенцев (1930-1954): дис. … д-ра ист. наук. - М., 1995. - 428 с.
- Папков С.А. Сталинский террор в Сибири (1928-1941 гг.). - Новосибирск, 1997. - 72 с.
- Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 - начало 1933 г.: сб. / отв. ред. В.И. Данилов, С.А. Красильников. - Новосибирск, 1993. - 342 с.
- Полян П.М. Не по воле своей. - М., 2000. - С. 72.
- Там же. С. 245.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. - М., 2003. - С. 22.
- Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. - М., 2004. - С. 71.
- Красильников С.А. Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е гг. - М., 2003. - С. 211.
- Корсакова О.В. Крестьяне-спецпереселенцы в Сибири в 1930-е гг. (на материалах Красноярского края): дис....канд. ист. наук. - Красноярск, 2001. - С. 200.