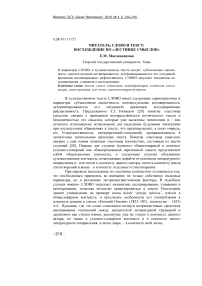Читатель, слово и текст: восхождение по "лестнице смыслов"
Автор: Масленникова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В параметры СЛОВА в художественном тексте входят: субъективная оценочность; контекстуальная мотивированость; детерминированность его ситуацией; временное ассоциирование; рефлективность. СЛОВО запускает механизмы ассоциирования, узнавания и категоризации.
Текст, смысл, понимание, интерпретация, контекст, коннотации, категоризация, код эпохи, лингвокультурный типаж
Короткий адрес: https://sciup.org/146281317
IDR: 146281317 | УДК: 811.111''23
Текст научной статьи Читатель, слово и текст: восхождение по "лестнице смыслов"
В художественном тексте СЛОВО имеет следующие характеристики и параметры: субъективная оценочность; контекстуальная мотивированость; детерминированность его ситуацией; временное ассоциирование; рефлективность. Предложенное Е.Г. Эткиндом [20] понятие «лестница смыслов» связано с принципом неопределённости поэтического текста и бесконечностью его смыслов, которые уже выделены читателями и / или остаются потенциально возможными для выделения будущими читателями при последующих обращениях к тексту, что предопределяет, в свою очередь, его N-множественность интерпретаций-толкований, превращающихся в личностные читательские проекции текста. Понятие «лестница смыслов» связано с ещё одним понятием «лестница контекстов», состоящая из шести ступеней [20]. Нижние две ступени (контекст общесловарный и контекст условно-словарный как общепризнанный переносный смысл) представляют собой общеязыковые контексты, а следующие ступени объединяют художественные контексты, позволяющие перейти от контекста литературного направления и / или эпохи к контексту данного автора, затем к контексту цикла стихотворений и выше – к контексту отдельного стихотворения.
При переводе восхождение по «лестнице контекстов» осложняется тем, что необходимым принимать во внимание не только собственно языковые параметры, но и различные экстралингвистические факторы. В подобных случаях именно СЛОВО запускает механизмы ассоциирования, узнавания и категоризации, позволяя читателю ориентироваться в тексте. Рассмотрим данное утверждение на примере слова dandy ‘денди, щёголь’, взятом в общесловарном контексте, и проследим особенности его употребления в контексте романа в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831, полностью – 1833) А.С. Пушкина, где это слово становится интер-и интратекстовым средством выстраивания отношений между дендистской литературной традицией и дендизмом как стилем жизни, реализуясь уже не только в контексте данного автора, но также в условно-словарном контексте и в контексте целого литературного направления, а затем, шире, – в контексте всей эпохи.
В строфе IV первой главы А.С. Пушкин использует англицизм dandy при описании обстоятельств вступления своего героя в светскую жизнь ( Как dandy лондонский одет ). Слово dandy выделено графически курсивом непосредственно в самом тексте и стилистически как неологизм-англицизм в авторском объяснении в примечании, что dandy - это ‘франт’, что позволяет предположить, что слово, скорее всего, не было известным массовому читателю-современнику автора. Передача авторской характеристики Евгения Онегина при переводе романа на английский язык зависит от ряда ограничений, так как переводчикам предстоит решить, оставить включение dandy в строфе IV первой главы романа или выбрать эквивалент, имеющий в той или иной степени схожие соответствующие культурно-исторические коннотации, (не) позволяющие читателю двигаться по «лестнице смыслов».
DANDY и ДЕНДИ в общесловарном контексте русского языка. Изданный в Санкт-Петербурге «Энциклопедический лексикон» [19] включает dandy в список важнейших иностранных слов, вошедших в русский язык из английского языка, среди которых также названы воксаль как ‘место увеселений’ (сейчас - вокзал ), леди , пуддинг (современное правописание - пудинг ), фут , эль , юмор, ярд, яхта . В примечании к книге французского путешественника Ж. Дюмон-Дюрвиля (1790-1842) её переводчик называет английские слова comfort, groom , rout , dandy, humour непереводимыми словами, «выражающими самобытный характер любезного Джон Буля» [7: 267], т.е. настоящего англичанина. Академик Петербургской академии наук филолог И.И. Давыдов (1794-1863) называет слово денди в числе исключительно английских реалий, среди которых также леди , комфорт , пудинг и ярд [5]. Высмеивая прогуливающихся по Невскому проспекту столичных жителей, анонимный автор из еженедельника «Иллюстрация» [1] перечисляет встречающиеся в досужих разговорах английские слова (jockey - groom - tweed - apple-cake - fashion - steeple-chase - eccentric - railways - humour - derby - sport - comfort - puff - race horse - turf - steamers - dandies - gentleman riders - plaid - grog - stud-book ), которые отражают сформировавшийся круг занятий и интересов денди: забота о собственном комфорте, увлечение скачками и бегами, наличие собственного грума и т.д.
Статья из «Справочного энциклопедического словаря» [17] указывает, что денди создаёт моду. Некоторые словари XIX века включают в дефиницию денди только его синонимы - франт [11] и щёголь [3] или дают развёрнутые объяснения ‘франт, следующий моде’ [12 и др.].
Контекст условно-словарный (общепризнанный переносный смысл). Программа дендизма отражена в следующих определениях: денди -это ‘мужчина, одевающийся постоянно по моде, порядочного происхождения, имеющий достаточный доход и обладающий хорошим вкусом’ [14] или ‘мужчина, одевающийся постоянно по моде и со вкусом, благородного происхождения и имеющий достаточный доход’ [15], но упоминание дохода противоречит неписанному кодексу денди с его взглядами на деньги и материальное. В России второй пик дендизма - после пушкинской эпохи -совпал с эпохой декаданса и попал под влияние его идеологии (см. [4]). Специфика русского дендизма нашла отражение в дефинициях рубежа XIXXX веков: ‘франт, мужчина, постоянно одевающийся по моде и со вкусом, щёголь большого света’ [9], ‘светский франт, щёголь большого света’ [8] и др. Ироническое отношение к чрезмерной заботе о костюме и внешнем виде заставило заявить, что денди – это ‘щёголь, аристократ, дурак’ [10].
Основы кодекса дендистского поведения были заложены в Англии в период расцвета романтизма в культуре и литературе, повлиявшего на формирование лингвокультурного типажа ДЕНДИ в целом. Ф.В. Булгарин (1789–1859) в книге «Очерки русских нравов» [2], высмеивая охватившую Европу англоманию, указывает, что светский лев должен охотиться, увлекаться рыбной ловлей и конскими скачками, уметь отлично плавать, фехтовать и стрелять, а также править упряжкой лошадей, тратить огромные деньги на лошадей, оружие, жокеев. А.С. Пушкин не смешивает dandy Онегина ( В своей одежде <...> франт ), подражающего признанному законодателю моды в искусстве одеваться ( Второй Чадаев, мой Евгений ), франта -гвардейца ( Сей Грандисон был славный франт ), московских франтов записных , и уездного франтика Ивана Петушкова , безуспешно сватовшегося к Татьяне.
Представленное Ф.В. Булгариным описание быта и привычек русских денди полностью соответствует характеру пушкинского Онегина: поздно встают, проводят два часа за туалетом, чистят зубы и ногти, затем гуляют с лорнетом по солнечной стороне Невского проспекта или по Английской набережной, делают светские визиты, являясь в гости последними, а потом отправляются в театр или на бал, стараясь везде казаться равнодушными. Становится понятным отношение Онегина к Татьяне: светские «львы иногда женятся – но никогда по любви, а всегда по расчёту <...> Влюбиться в благородную девицу – почитается глупостью, если при этом нет надежды уплатить долгов после женитьбы – и жить доходами жены» [2: 96].
Контекст литературного направления, эпохи. Вслед за А.С. Пушкиным, Н.Ф. Павлов (1803–1864) использует англицизм денди при описании театралов в повести «Аукцион» [13], передавая его с помощью транскрипции. Использование во множественном числе прецедентных имён Чайлд-Гарольда , который, кстати, породил появление особого типа романтического героя в мировой литературе под названием «байронический герой», и пушкинского Онегина придаёт им значение собирательности, свидетельствуя об активном формировании и закреплении культурноисторической модели дендизма. п оэт трижды упоминает имя героя поэмы д ж . б айрона «Childe Harold’s Pilgrimage» (1812–1818): в строфе XLIV четвёртой главы ( Прямым Онегин Чильд-Гарольдом ), в строфе XXIV седьмой главы ( Москвич в Гарольдовом плаще ), в строфе VIII восьмой главы ( Чем ныне явится? Мельмотом <...> Гарольдом, квакером, ханжой ), у которой эпиграф из двух байроновских строк ( Fare thee well, and if for ever / Still for ever fare thee well ).
Имена собственные разочарованных в себе литературных героев перешли в разряд прецедентных феноменов, оказавшись тесно связанными с перцептивно-образным представлением о лингвокультурном типаже ДЕНДИ и его составными параметрами в виде базовых конститутивных, перцептивнообразных и оценочных признаков. Онегин надевает маску ( Чем ныне явится? ), но для маски характерно переходить в разряд типажей: денди проявляли нарочитую небрежность и пренебрежительную невнимательность к окружающим, а лорнет становился средством визуальной игры в (не)узнавание, ср.: Небрежно раскинувшись на креслах, поводили невнимательными лорнетами Московские денди, Чайлд-Гарольды, Онегины . Н.Ф. Павлов. Аукцион - 212 -
(1835); Ср.: И, устремив на чуждый свет / Разочарованный лорнет <...> / Двойной лорнет скосясь наводит <...> Здесь кажут франты записные / Своё нахальство, свой жилет / И невнимательный лорнет . А.С. Пушкин. Евгений Онегин
В первом полном переводе поэмы Дж. Байрона «Don Juan» (1818–1824) на русский язык В.И. Любич-Романович (1805–1888) активно использует слово денди , что свидетельствует о закреплении слова в языке к 1846 году. Отметим схожесть словосочетаний денди записные из байроновского «Дон Жуана» в переводе В.И. Любич-Романовича и франты записные из пушкинского «Евгения Онегина».
Ироническое восприятие лингвокультурного типажа ДЕНДИ в русской культуре и литературе начинается с 1840–х годов. Контексты из «Национального корпуса русского языка» (ruscorpora.ru), отражают меняющееся отношение к dandy – от восхищённого до иронического.
Контекст автора. Составители «Словаря языка Пушкина» [16] не стали включать в него слово денди , так как оно приведено в иноязычном написании, т.е. латиницей. Из синонимического ряда ДЕНДИ наиболее широко в пушкинских произведениях представлен франт (11 случаев словоупотребления), затем следует щёголь (3). В списке прибывших на именины Татьяны гостей в пятой главе упоминается уездный франтик Петушков , в описании которого сочетаются намёк на его провинциальность ( уездный ) и говорящее имя собственное ( Петушков ). В XIX веке петухом называли ‘драчуна, забияку’, а глагол петушиться имел ещё одно значение ‘кичиться, чваниться’ [6], поэтому в глазах столичного жителя Петушков – это самодовольный франтик .
Понятие «тесноты стихотворного ряда» [18] отражает свойство слова в микроконтексте устанавливать для себя новую семантическую «среду», действуя в пределах предложения или словосочетания. Именно в такой среде реализуется рифмующаяся пара франт – педант ( В своей одежде был педант / И то, что мы назвали франт ), где педант имеет значение ‘человек, отличающийся мелочной точностью в соблюдении каких-н. правил, норм и требующий того же от других’ [16], т.е. для читателя XIX века усиливается смысловая логическая цепочка: Онегин старается копировать модель поведения, но настоящий денди сам создаёт моду, а не следует ей (см. статью «Денди» в [17]). В строфе V первой главы слово педант имеет ещё одно значение: ‘человек, выставляющий напоказ свои знания, свою учёность, с апломбом судящий обо всём’ [16]: Онегин был по мненью <...> Учёный малый, но педант . Через другие члены синонимического ряда слово денди ( dandy ) оказывается вовлечённым в широкий контекст автора , в контекст цикла стихотворений и контекст отдельного стихотворения .
Английский синонимический ряд DANDY ‘денди, щёголь, франт, фат’ включает [21]: beau ‘щёголь, франт’ (с XVII века), blade ‘франт, фат’, coxcomb ‘фат, пижон’ (с XVI века), fop ‘щёголь, фат, пижон, хлыщ’ (с XVII века), man about town ‘светский человек, богатый повеса, жуир’, peacock ‘фат’, popinjay ‘фат, щёголь, хлыщ’ (с XVI века) и swell ‘франт, щёголь, светский человек’. Тех, кто подражал континентальной моде, называли в XVIII веке macaroni ‘франт, фат’. К устаревшим словам также относятся: blade ‘франт, фат’, blood ‘франт, денди’, buck ‘денди, щёголь’ (с XVIII века). В британском варианте языка присутствует сленговое слово toff ‘франт, щёголь; джентльмен’ (с XIX века), а в американском – dude ‘хлыщ, фат, пижон’ (с XIX века). Словосочетанию military fop соответствует ‘душка-военный’. К зооморфным образам восходят peacock (от peacock ‘павлин’) и popinjay (от parrot ‘попугай’). Слово fop получило со временем негативные коннотации, указывая на тщеславного человека, гордящегося внешностью. Поскольку настоящий англичанин, представляемый лингвокультурным типажом John Bull, не должен был демонстрировать интерес к одежде и своему внешнему виду, то в отношении героя А. Кристи (1890–1976) элегантно одевающегося бельгийца Эркюля Пуаро англичане используют именно слово fop. При переводе строфы XXV первой главы мнения переводчиков разделились: многие предпочли fop в качестве эквивалента для франта вариант fop (H. Spalding, 1881; Ch. Johnston, 1977; J. Falen, 1990; R. Clarke, 2005), но некоторые продолжают именовать его dandy (S.N. Kozlov, 1994; G.R. Ledger, 2001; S. Mitchell, 2008; M. Hobson, 2011). Примечательно, что сэр К. Филлиппс-Уолли вводит русскую реалию франт: And what we Russians call a “phrant” (C. Phillipps-Wolley, 1883).
Ограничение по маркированности слова действует для уездного франтика Петушкова : его нельзя отнести к разряду денди : country dandy (B. Simmons), district dandy (S.N. Kozlov), local dandy (G.R. Ledger; M. Hobson). Петушков не был богатым светским человеком, поэтому он не man about town ‘светский человек, богатый повеса’: local man-of-fashion (R. Clarke). Его трудно отнести к категории swell ‘франт, светский человек’: provincial swell (H. Spalding). Скорее всего, он – local fop (Ch. Johnston), district fop (J. Falen), our fop (S. Mitchell). Присутствующие на балу из седьмой главы франты записные демонстрируют стиль поведения ( нахальство ) и атрибуты денди ( невнимательный лорнет и жилет ), поэтому в общий контекст вписываются fops (H. Spalding; S. Mitchell; M. Hobson) и dandies (Ch. Johnston; J. Falen; G.R. Ledger), но в меньшей степени men of fashion (B. Simmons) и men from the smart set (R. Clarke). Упоминаемый в первой главе бобровый воротник (Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник ) для читателей XIX века участвовал в процессе формирования текстового смысла, попадая в соответствующую концептуально-тематическую область, связанную с традициями дендизма. Из детали мужского гардероба бобровый воротник он превращается в закодированный символ эпохи русских денди. Культурная обусловленность опосредованного вторичного текста допускает концептуальную гибкость: возможны beaver collar ‘бобровый воротник’ (R. Clarke; S. Mitchell; M. Hobson), furs ‘меха’ (H. Spalding), fur collar ‘меховой воротник’ (O. Emmet, S. Makourenkova, 2007).
Выводы. В художественном тексте за СЛОВОМ стоит эксплицитно и имплицитно заданный набор ценностей. Временная осложнённость такого текста и его историко-временная маркированность приводят к тому, что зашифрованные авторские смыслы способны стать лакунами для последующих поколений читателей. Ситуативная обусловленность выступает как реализация социально-культурного контекста и переводчику необходимо учитывать смысловые и ассоциативные связи слова в определённом контексте с учётом кодовых параметров текста. Требуется принимать во внимание не только коды культуры и зашифрованные в них культурные ценности и антиценности, но и особенности употребления СЛОВА, за которым могут стоять особые способы задания смысла.
Список литературы Читатель, слово и текст: восхождение по "лестнице смыслов"
- Болтовня//Иллюстрация: еженедельное издание всего полезного и изящного. 1847. № 14 (19 апреля). С. 221-223.
- Булгарин Ф.В. Очерки русских нравов. СПб.: Тип. Э. Праца, 1843. 98 с.
- Бурдон И.Ф. Объяснительный словарь30000 иностранных слов. М.: Унив. тип., 1865. 741 с.
- Вайнштейн О.Б. Денди. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 640 с.
- Давыдов И.И. Опыт общесравнительной грамматики русского языка. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1852. 462 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. СПб.: ТОО «Диамант», 1996.
- Дюмон-Дюрвиль Ж. Всеобщее путешествие вокруг света. М.: Тип. Августа Семена, при Имп. медико-хирургической акад., 1835. Ч. 2. 355 с.
- Ефремов Е. Новый полный словарь иностранных слов. М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1912. 605 с.
- Зелинский В.А. Объяснительный словарь более употребительных в русской литературе и речи иностранных слов. М.: , 1901. 227 с.
- Карманный словарь иностранных слов. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1906. 103 с.
- Михельсон А.Д. 30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык. М.: Собственное издание автора, 1866. 771 с.
- Михельсон А.Д. Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык. М.: А.И. Манухин, 1865. 718 с.
- Павлов Н.Ф. Три повести. М.: Тип. Н. Степанова, 1835. 412 с.
- Русский энциклопедический словарь. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1874. Т. 1. 728 с.
- Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб.: В.И. Губинский, 1894. 989 с.
- Словарь языка Пушкина: В 4 т. М.: Азбуковник;, 2000.
- Справочный энциклопедический словарь. T. 4. СПб.: Издание К. Крайя, 1855. 430 с.
- Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л.: Academia, 1924. 139 с.
- Энциклопедический лексикон. СПб.: В тип. А. Плюшара, 1839. Т. 16. 400 с.
- Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб.: Знание, 2001. 446 с.
- Collins Concise Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 2000. 823 p.