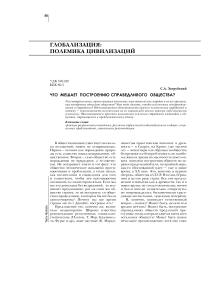Что мешает построению справедливого общества?
Автор: Загрубский Сергей Алексеевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Глобализация: полемика цивилизаций
Статья в выпуске: 2 (15), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена тема, привлекавшая внимание мыслителей всех народов и во все времена: как построить идеальное общество? Что надо сделать, чтобы исключить несправедливости и страдания? Обосновывается объективность причин человеческих страданий и потому ? невозможность исключения их из социальной жизни какими-либо волевыми усилиями. Обосновывается причина возможного усиления страданий индивидов в обществе, стремящемся к предположенному идеалу.
Границы разрешенного поведения, различие стремлений индивидуальных и общих, социальная проблематика, социальные рекомендации
Короткий адрес: https://sciup.org/14031143
IDR: 14031143 | УДК: 316.012
Текст научной статьи Что мешает построению справедливого общества?
В обществознании существует несколько положений, никем не оспариваемых. Первое – человек как порождение природы есть существо социализированное, общественное. Второе – само общество есть порождение не природное, а человеческое. Не оспаривает никто и тот факт, что общество человеческое насыщено противоречиями и проблемами, а такие науки, как политология и социология для того и существуют, чтобы эти противоречия осознавать и с ними справляться. Если мы все это допускаем без возражений, то возникает предложение: раз уж сами мы общество строим, то не построить ли общество справедливое, в котором бы все были удовлетворены? Почему мы все время строим «не то»? Давайте, построим «то»!
Предложение это, конечно же, возникало неоднократно. Широко известны рекомендации религиозные, социальноутопические (Платон, Т. Мор, Кампанелла, фурье и др.), даже научные (К. Маркс), известны практические попытки: в древности - в спарте, на Крите; уже тысячи лет - монастыри как образцы сообщества безгрешного и беспроблемного; но наиболее явны и зримы по массовости своего охвата попытки построения обществ по заранее продуманной или, по крайней мере, как-то обоснованной идее - уже в наше время, в XX веке. Это, конечно, в первую очередь, общества в ссср, Италии, Германии и целом ряде стран. Все эти предложения и попытки как в древности, так и в новое время, не только окончились ничем и были вполне сознательно отвергнуты, но сопровождались бесконечными трагедиями, несчастьями, людскими потерями.
И, конечно, возникает естественный вопрос – почему? Может быть, нельзя или вредно мечтать? Может быть, построение справедливых обществ предлагают преступные люди, которым удается затем всех остальных обмануть? Может быть (самое печальное предположение, хотя оно тоже существует), разумность, справедливость и доброта принципиально, генетически чужды людям?
На эти вопросы человечество не дало практического ответа, но поиск ответа теоретический – в наших силах. Попытаемся сами мысленно построить справедливое общество и обратим особое внимание на то, не начнет ли на какой-либо ступени это построение противоречить нашей первичной цели, то есть не приведет ли к чему-то «плохому» наше стремление сделать «как лучше».
Итак, мы живем сегодня, к своему общественному существованию имеем ряд претензий и стремимся построить общество, свободное от наших сегодняшних недостатков. Что же надо сделать в первую очередь? И что мы вообще можем сделать в первую очередь?
Очевидно, в первую очередь нам необходимо, а уже прямо сейчас и доступно – тщательно продумать детали желаемого будущего, по возможности ясно отделить наше желаемое от нежелаемого. Тому есть яркий пример: в XX в. вся европейская интеллигенция была социалистической и размышляла об особенностях будущего справедливого общества. Как там будет решаться жилищный вопрос? – спрашивали у Энгельса. И он отвечал: мы не можем этого знать, будущие люди сами разберутся со своими проблемами, но уже сегодня ясно, что в будущем один человек не сможет иметь несколько квартир при том, чтобы другой был вынужден ютиться под мостом.
Я специально обращаю внимание на этот пример: мы не решаемся сегодня диктовать что-либо будущим людям, но уже сегодня мы начинаем формулировать какие-то максимы, начинаем заказывать будущему то, чего сегодня нет, и сегодня уже будем определять, ориентируясь на эти максимы: движемся «туда» или «не туда». Уже сегодня мы (именно «в первую очередь») можем сформулировать то, чего в нашем обществе быть не должно, от чего надо освободиться. Что там будет – то будет. А «не должно быть» многого из того, что сегодня есть. Энгельсу было ясно одно, Платону было ясно, что «свободнорожденным» «несвойственно» заниматься торговлей, «новым людям» тургеневской эпохи (базаровым) было ясно, что любовь и разные «рафаэли» мешают серьезной работе и так далее.
Это можно было бы изобразить рисунком: обозначить свое «сегодня» некоей точкой, а другой точкой, даже звездой, – наше желательное «будущее». И далее – нарисовать на листе бумаги прямую линию от нас сегодняшних к нам будущим как стратегическую линию наших устремлений. Понимая, что путь этот не может быть абсолютно прямым, поскольку мы собираемся строить незнаемое, давайте мы проведем «вперед и вверх» не тонкую прямую, а некоторый «коридор». Коридор просто шире, чем линия, но все равно он явно и резко отграничен от того – огромного – пространства, которое в коридор нашего допускаемого (по мысли) поведения не входит. Каковы же границы этого коридора, и какова его ширина?
Понятно – чисто энергетически, или даже чисто геометрически, - что, чем шире будет коридор разрешаемого нами самим себе поведения, тем больше мы сможем «отклоняться» и «буксовать», тем дольше будем мы двигаться к желанной цели. Поэтому – и это опять очень важный вывод - именно вывод из собственных наших надежд и стремлений: желательно сделать коридор разрешаемого и одобряемого поведения нешироким, стремиться максимально его сузить в дальнейшем и, главное, – тщательно охранять его границы, – чтобы застраховать себя в дальнейшем от попадания «куда не надо».
Это очень важный и совершенно обоснованный вывод, оправданный с точки зрения нашего общего стремления к счастью и справедливости, к тому социальному состоянию, которое мы на своем листе обозначили звездой как искомое нами счастливое будущее.
Тот, кто будет ратовать за уменьшение ширины коридора, то есть за повышение сосредоточенности и строгости, будет восприниматься всеми как человек, служащий общей ценности, преданный общему делу, как образец и учитель. Таковы, в частности, были религиозные пророки и революционные вожди. И те, и другие были аскетами сами и проповедовали аскетизм и подчинение всех помыслов стремлению к светлой идее. Тот же , кто будет ратовать за расширение коридора разрешенных форм поведения, ссылаясь, на многообразие индивидуальностей граждан общества, или на широту их интересов, или на их слабости, или вообще на то, что человек и есть высшая ценность – тот будет объективно (это тоже очень важный вывод) тормозить наше общее (в том числе и «слабых» людей), движение к счастью, о которых думаем и заботимся мы - умные
Общество
Terra Humana
и сильные. Ясно, что подобного ходатая за людские слабости, такого гуманиста, мы, созидатели будущего счастья, назовем врагом нашего общего дела. А собственная наша любовь и к общему стремлению, и к «слабым» согражданам, и даже к самому «ходатаю», ярче всего выразится в том, что мы его «выкорчуем» из собственной среды, подобно Господу, который, как виноградарь, «сухие ветви огнем сожигает» (Ин. 15, 6) – в назидание и научение всем остальным. Ведь и базаров выкорчевывал любовь из сердца своего, как и уважение к «рафаэлям».
Кстати, об отношении к «слабым», то есть к тем, кому сосредоточение на «идее», на осознанной или предположенной ценности дается трудно. Оставим в стороне ф. Ницше, который считал, что «слабые и неудачники должны погибнуть», и это есть «первое положение нашей любви к человеку» [1, с. 633], (а в древней спарте так и делали), а обратимся к такому человеко- и боголюбивому религиозному мыслителю, как В. соловьев. Вспоминая собственные свои размышления об улучшении человеческого социального существования (то есть совершенно по интересующей нас здесь теме), он дошел до следующего: «Вся жизнь, а, следовательно, и цвет жизни, любовь – есть только призрак и обман. Наша воля вечно нас обманывает, заставляя слепо гоняться как за высшим благом и блаженством, за такими предметами, которые сами по себе ничего не стоят. Она-то, воля, и есть первое и величайшее зло, от которого нам нужно освободиться. Для этого мы должны подавить все наши личные стремления, отречься от всех наших желаний и надежд. Я познал истину, и моя цель – осуществить ее для других… Годам к 18-ти я додумался до твердого убеждения, что вся временная жизнь, как состоящая только из зол и страданий, должна быть поскорее разрушена» [3, с. 367]. Здесь отношение к тем, кто думает иначе, то есть к «слабым»: «они» еще не успели понять того, что для них же лучше, и оправданное поведение «понявших» может быть, даже должно быть, силовым, бескомпромиссным, без оглядки на возможные возражения – потом все все поймут и возрадуются.
Итак, командовать устроением границ допустимого поведения всех членов сообщества будут те, кто успел понять некую истину. В основании общего согласия с этой истиной лежит не обязательно понимание ее, но обязательно – общее недовольство настоящим и общее стремление к скорейшему созиданию справедливости и счастья, то есть тот наш первый вопрос, легший в основание данных размышлений.
Однако надо уже и действовать, что-то делать фактически, а не только размышлять и предполагать. Надо строить жизнь, ориентируясь на оговоренные ценности и рамки. Эйфория первичного социального творчества, – пока еще чисто теоретического – сменяется буднями и суетой. Насколько же строители светлого будущего могут ее, саму эту будничность и суету, допускать? Может быть – она сама по себе – зло? Например, любовь, хотя бы только к своим близким – ее можно допускать? решил же В.с. соловьев, что «любовь есть только призрак и обман». Христианская религия напоминает, что «враги человеку домашние его» (Мф. 10, 36). Платон считал необходимым разрывать семейные связи, чтобы никто никого не любил особенно. Платон вообще утверждал пагубность не только одного какого-то чувства, но «каждое свойство, которое мы одобряем в лучших людях, как раз и губит душу, им обладающую» [2, 491]. Иначе говоря, даже первичные, естественные человеческие чувства представляются тормозом в движении к желательному будущему. Понятно, какого рода рекомендации руководителям построения светлого будущего следуют из всех эти наблюдений и убеждений: руководимые ими люди нуждаются (для собственного же блага, разумеется!) в постоянном контроле даже над естественными их жизнепроявлениями.
К чему же приводит эта логическая линия рассуждений для рекомендаций по практическому поведению? Или к чему это должно приводить?
Нельзя надеяться на то, что индивидуальное человеческое поведение само по себе утвердится в каких-то непривычных ему рамках, ориентируясь на общий для всех образец. Мало того, природная инди-видуализированность людей обязательно, объективно приведет к тому, что даже нарушать желаемые нормы поведения они будут по-разному и будут постоянно склонны к нарушениям границ – не «со зла», конечно, а просто в ходе жизнепроявлений. Но границы, которые можно нарушать, -уже не границы. И вот: при всей неясности, как именно созидать светлое будущее, совершенно ясно, что направление к нему должно быть обеспечено надежно, границы разрешенного поведения должны охраняться незыблемо, а сами охранители границ должны руководствоваться только одной ценностью – недопущением отклонений от «линии партии».
Этим охранителям нельзя ставить каких-то заранее оговоренных рамок (читатель помнит, что наши выводы сооружены чисто логически), потому что непредсказуемы – при строительстве небывалого еще общества – не только что возможные нарушения границ, но также и отклонения. При строительстве небывалого, при общей и совершенно честной неясности путей и условий принятия нужных решений самая ясная, а во многих случаях и единственно ясная, определенная и понятная деятельность – именно охрана границ всех аспектов, всех сторон социального существования. Охранники всякого рода (Платон их только так и называл) призываются обществом, строящим светлое будущее, к верховному над собою правлению, причем общество принципиально освобождает их от социального контроля.
Последнее утверждение совершенно оправдано логически и очень явно зафиксировано в человеческой социальной практике. Платон утверждал: «что свойственно и что не свойственно свободнорожденным, будут судить люди, получившие почетные дары за свою добродетель», и при этом они будут основываться в своих решениях не на каких-либо законах или даже подсказках и советах, а на «своей склонности или своем отвращении» [ 3, 919-е]. религии выводят свои тексты и поведение своих патриархов из-под какой-либо критики, объявляя их безгрешными, светские правительства обожествляют «решения партии», «высказывания фюрера», «изречения» Мао Дзедуна и т.д. Иначе говоря, до этих пор наши теоретические предположения вполне подтверждаются практикой всечеловеческого исторического существования.
Итак, мы договорились, что стремление к построению всеобщего счастья логически необходимо выражается во всеобщем безусловном подчинении некоей группе людей, которых, по Платоновой подсказке, назовем «стражами».
Выделение в качестве пастырей человечества «некоей группы» – «получивших дары за свою добродетель» (по Платону), «генетически властвующих» (по Ницше), «генетических пассионариев» (по Гумилеву), в бесконечном количестве других обозначений и называний – представляется людям естественным и оправданным тем простым и совершенно безвредным
(для других) фактом, что кто-то кого-то умнее, кто-то – опытнее, кто-то – просто «к этому» имеет больше способностей и так далее. Однако, не следует ли что-либо «особенно неожиданное и нежелательное» из рассуждений, выше логически обоснованных? Не следует ли что-нибудь такое, что уже начало бы противоречить нашей исходной цели? Обратим внимание на то, что в нашем случае оправдана социально и исторически, обоснована логически опора на тех, кто «может и должен охранять границы разрешенного». Какие же это должны быть люди?
Призываю читателя к очень критическому, совершенно самостоятельному построению выводов. Итак, какие люди будут отвечать именно общественной нужде в построении общества не такого, как сегодня, а лучшего, справедливейшего? сама «охрана» границ разрешенного или допустимого поведения всякого «обычного», массового человека оказывается социально востребованной потому и только потому, что человек «обычный», организованный «природно», – то есть с любовью к родителям, детям, жене, родине, к своему делу, к поиску условий самореализации – объективно тяготеет к нарушению каких угодно границ просто потому, что (чисто природно) он индивидуален, он отличается от «других», и «границы», прописанные ему природой по уму и способностям его, не ориентированы ни на какие границы внешние. стремление созидать (из самых лучших побуждений) нечто определенное принципиально сталкивается с противодействием факта неопределенности человеческих индивидуальностей. Индивидуальность как источник возможного многообразия должна естественно восприниматься как враг единства, определенности. Все светские и религиозные монархии глушили эту природность в откровенном отказе индивиду на право быть индивидом, – но счастливое и, главное, справедливое будущее не может созидаться на «отказах в праве быть самим собой». И, значит (следует), в когорту «стражей» начнут объективно – и по заказу и с согласия самого сообщества – отбираться индивиды, от собственных индивидуальных запросов отказавшиеся, или их не имеющие, или как угодно готовые воспринимать реализацию себя (нужда природная и неизбывная) через подчинение идее, вождю, инструкции. А говоря попросту, в когорту охранителей и вождей движения «к светлому будущему» должны
Общество
отбираться люди интеллектуально неразвитые, духовно безразличные (чтобы мочь быть послушными и не «увлекаться идеями»), т.е. примитивные. Их ценность для общества в том, что сами они ничего нарушать не стремятся и фактом своей подчи- ненности и ограниченности не унижены. А тот факт (а это уже социальный факт!), что служат они «построению светлого будущего» и охраняют людей от «пережитков прошлого» и собственных их, этих людей, заблуждений, – позволяет нашим «стражам» свысока смотреть на разных «индивидов»: писателей, мыслителей, студентов, интеллектуалов, – понимая в них только угрозу общему движению и, тем самым, – общим ценностям. Известно высказывание Геббельса, который сам, безусловно, был интеллигентом: «когда я слы- шу слово «интеллигент», моя рука тянется к пистолету». И вот теперь мы подошли к возможности осознать, что является преградой или помехой чистому и честному (вначале) стремлению к построению справедливого общества: люди, существующие сегодня, не соответствуют требованиям общества желательного.
с точки зрения идеала религиозного – они грешны и преисполнены гордыни, с точки зрения идеала коммунистического – они преисполнены «пережитков прошлого», с точки зрения националистических идеалов (гитлеровского в первую очередь) – они недостаточно элитарны (готовы допускать ценность и других национальностей) и так далее.
само понимание «светлого будущего» обязательно навязывает представление о том, что некоторые свойства, качества и стремления живых людей необходимо элиминировать, даже «выкорчевать», уничтожить – и организованное, направленное построение будущего всечеловеческого счастья поневоле обернется войной с людьми, живущими сегодня.
собственные исторические интересы людей, вообще особенности конкретного исторического момента, «ширина» разрешенного для индивидуальных действий коридора, целый ряд еще не перечисленных, а может быть, и не замеченных нами частностей воздействуют объективно на длительность и конечную результативность процесса запланированного социального созидания таким образом, что теоретически ясно: стремление к предположенному идеалу необходимо входит в противоречие с интересами, стремлениями и возможностями людей сегодняшних, и потому, даже при наличии каких-либо положительных частных результатов, сопровождается множеством преступлений против личности.
Можно сделать некоторый общий вывод. счастьем и благополучием всякий индивид склонен называть возможность реализации собственных индивидуальных способностей. В ответ на объективный факт множества наших индивидуальностей, предоставление гражданам именно множества и именно различных условий для самореализации осуществимо только при наличии многоотраслевых экономики, науки, культуры, подкрепленных к тому же развитой инфраструктурой, позволяющей индивидам свободно обмениваться знаниями и мнениями и свободно перемещаться. При явном и множественном дефиците этих условий опережающее стремление к счастью сможет реализоваться только в смирении с существующим, в уравнивании всех под некий бедный стандарт. Приходится избирать «немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильных. Незнатное мира и ничего не значащее…» приходится избирать, «чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1, 27–28). В этой библейской фразе мы находим утверждение, которое можно считать завершающим: для скорейшего и надежнейшего построения светлого будущего приходится «посрамлять» и «упразднять» – в одном случае сильное и значащее, в другом (спарта, Ницше) – незначащее и бессильное. И потому действительно справедливое общество может быть создано не по решению мысли, не при особой какой-то всеобщей воодушевленности и мобилизованности, а лишь при опоре на создаваемые веками и тяжелейшим трудом многих поколений условия для реализации природных способностей всех людей.
Terra Humana
Список литературы Что мешает построению справедливого общества?
- Ницше Ф. Антихрист. Соч. в 2-х т. Т 2. -М.: Мысль, 1990. -829 с.
- Платон. Государство//Платон. Сочинения в 4-х томах. Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. -СПб.: Изд-во СПб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2006. -Т. 3. -Ч. 1. -С. 97-457.
- Соловьев В.С. На заре туманной юности//Проза русских поэтов. -М.: Сов. Россия, 1982.