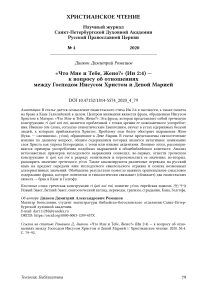"Что мне и тебе, жено?" (Ин 2:4) - к вопросу об отношениях между господом Иисусом Христом и Девой Марией
Автор: Ромашов Димитрий Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Библеистика
Статья в выпуске: 4 (93), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье дается осмысление евангельского стиха Ин 2:4 в частности, а также сюжета на браке в Кане Галилейской в целом. Центром внимания является фраза, обращенная Иисусом Христом к Матери: «Что Мне и Тебе, Жено?». Эта фраза, которая представляет собой греческую конструкцию τί ἐμοὶ καὶ σοί , является проблемной с точки зрения ее новозаветного употребле- ния. Именно эти слова, согласно синоптическим Евангелиям, звучат в устах одержимых бесами людей, к которым приближается Христос. Проблему еще более обостряет выражение Жено (букв. - «женщина», γύναι ), обращенное к Деве Марии. В статье представлены святоотеческие мнения по данному вопросу, общим содержанием которых является негативное понимание слов Христа как упрека Богородице, с теми или иными акцентами. Помимо этого, рассматриваются примеры употребления подобных выражений в общебиблейском контексте. Анализ ветхозаветных примеров исследуемого выражения позволил, во-первых, отнести греческую конструкцию τί ἐμοὶ καὶ σοί к разряду семитизмов и переосмыслить ее значение; во-вторых, расширить значение греческого γύναι. Также анализируются различные переводы на русский язык на предмет передачи ими исследуемого евангельского отрывка и поиска возможных альтернативных значений. Обобщение результатов помогло выявить оригинальное смысловое содержание фразы, которое логически и типологически связывает (сближает) два евангельских сюжета - брак в Кане и Голгофу.
Греческая конструкция τί ἐμοὶ καὶ σοί, понятие γύναι, еврейская идиома, ְך ָל וָ ִלי ַמ־ новый завет, ветхий завет, святоотеческий взгляд, переводы, трагизм, страдания, кана, голгофа
Короткий адрес: https://sciup.org/140250802
IDR: 140250802 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_4_79
Текст научной статьи "Что мне и тебе, жено?" (Ин 2:4) - к вопросу об отношениях между господом Иисусом Христом и Девой Марией
Master of ^eology, Masters Student at the Department of Biblical Studies and ^eology of St. Petersburg ^eological Academy.
Они знают, что ждет Их, на что Они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она «принять орудие в сердце», Он Голгофу…
С. Н. Булгаков1
Современного читателя от понимания текста Священного Писания отделяет многообразие историко-культурных и лингвистических барьеров, преодоление которых предполагает обязательное использование различного герменевтического инструментария и применение комплексного подхода.
На страницах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, при чтении нередко встречаются выражения, с интерпретацией которых возникают трудности. Одной из проблем является согласование подобного рода выражений с общебиблейским контекстом, а также со сложившимся в православной традиции вероучением.
Как известно, одни и те же евангельские изречения, в зависимости от тех или иных предпосылок (степени духовности, конфессиональной принадлежности, экзегетического подхода), могут рассматриваться разными толкователями по-разному, что в итоге приводит их к разным результатам, вплоть до взаимоисключающих. В качестве отправной точки исследования нами были взяты безапелляционные выводы, к которым приходят составители комментариев к Женевской Библии относительно евангельского фрагмента Ин 2:4. Этот стих, по мнению комментаторов, является «сильным аргументом против обращения к Марии с молитвами» (Новая Женевская учебная Библия).
В православной традиции почитание Божией Матери имеет важное догматиче-ское2 и практическое3 (литургическое и сотериологическое) значение. Значительная часть молитвенного обращения в рамках православного богослужения и сугубо келейной молитвы посвящена именно Богородице. Следовательно, вопрос понимания этого и подобных ему выражений является непраздным. Каково смысловое содержание фразы Иисуса Христа «Что Тебе и Мне, Жено?»4, обращенной к Деве Марии? Это укор, указание на некую границу в отношениях, предупреждение родительских претензий или что-то совершенно иное?
Хотя полемические задачи в исследовании совершенно не исключаются, все же они не являются главными. Наиболее важно попытаться разобраться и представить объективную картину по данной теме, используя комплексный подход.
Для удобства восприятия исследование будет представлено в несколько этапов:
-
• святоотеческая традиция толкования Ин 2:4;
-
• фраза в общебиблейском контексте;
-
• стих Ин 2:4 в различных переводах;
-
• оставшиеся вопросы;
-
• выводы.
Святоотеческая традиция толкования ин 2:4
Для начала рассмотрим святоотеческий взгляд на данный евангельский стих. Всё многообразие святоотеческих мнений можно свести к двум схожим по своему внутреннему психологическому содержанию категориям5:
– Дистанцированность, отстраненность6. Христос обращает внимание на Свое Божественное достоинство, предупреждая родительские претензии. В некотором смысле этот эпизод коррелирует с евангельской историей посещения Святым семейством Иерусалимского храма (Лк 2:41–52)7, пребывание в котором, несмотря на уход родителей, двенадцатилетний Отрок Иисус объясняет Своим Богосыновством;
– Несвоевременность, преждевременность8. Господь сдерживает несвоевременную спешку Своей Матери, укоряет по причинам неуместности совершать чудеса раньше определенного срока.
Как видно из представленного выше, общим для святоотеческих комментариев является кажущаяся современному читателю строгость Иисуса Христа по отношению к Своей Матери. Различия при этом — только в акцентах, то есть в обосновании причины такой строгости. Вероятнее всего, святые отцы смотрели на этот эпизод (как и в общем на отношения Иисуса Христа с Его Матерью) ретроспективно. До предстоящих событий смерти и воскресения Своего Сына (до Его прославления) Божия Матерь хотя и благословлена среди жен рождением Бога Слова, но не лишена и естественных материнских чувств, которым так или иначе Господь Иисус Христос ставит препятствие. Такая строгость нисколько не смущала ранних комментаторов и тем более не умаляла высоты по-своему уникальных родственных отношений Иисуса Христа и Богоматери.
Современному читателю, находящемуся в условиях уже сложившейся традиции почитания Божией Матери (развитой гимнографии, иконографии, молитвословий, обращенных к Богородице, и др.), труднее посмотреть на этот эпизод ретроспективно, отбросив массив традиции. Да это, собственно, и не нужно. Как будет показано ниже, фразу эту не обязательно понимать как упрек.
Также не исключено и то, что порог чувствительности, психологической ранимости участников Священной истории и ранних комментаторов был несколько выше (намного выше). То есть то, что нам сейчас может показаться грубостью (нарушающей достоинство личности!), могло трезво оцениваться в период патриархального общества. Например, то немногое, что столетиями считалось нормой, в том числе в семейных отношениях (наказание отцом сына, семейная иерархия и др.), а современным человеком воспринимается как преступление, ни во времена Христа, ни в святоотеческий период не мыслилось как нечто негативное.
Подобного рода историко-культурное осмысление — не единственное, и оно может (должно) быть дополнено историко-филологическим анализом самой фразы в общебиблейском контексте.
Фраза «Что мне и тебе, женщина?»9 в общебиблейском контексте
Буквального совпадения в библейских текстах нами обнаружено не было, что определило решение в дальнейшем рассматривать эту фразу, разделив ее на две неравные по объему части. Для начала обратим внимание на первую часть евангельского стиха.
Что мне и тебе? (τί ἐμοὶ καὶ σοί;) в книгах Нового Завета
Важно отметить, что подобного рода оборот речи встречается в нескольких евангельских сюжетах, а именно в истории исцеления Иисусом Христом бесноватых. «Что тебе до меня (τί ἐμοὶ καὶ σοί), Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня», — вскричал легион бесов в лице гадаринского бесноватого, увидев Христа (Лк 8:28; Мф 8:2910 и Мк 5:7). Схожая с точки зрения грамматики терминологическая конструкция наличествует и в другом сюжете. «Что Тебе до нас (τί ἡμῖν καὶ σοί), Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий!» — взывают бесы через одержимого ими человека в Капернаумской синагоге (Мк 1:24; Лк 4:34). В обоих сюжетах (имеющих, как видно, параллели во всех синоптических Евангелиях) источником фразы выступают сами бесы11. Таким образом, терминологическое сходство между ответом Иисуса Христа Своей Матери, с одной стороны, и паническим криком бесноватых, с другой, создает еще больше трудностей для интерпретации Ин 2:4.
По-разному с точки зрения грамматики осмысляется этот нехарактерный для русскоязычного читателя оборот τί ἐμοὶ καὶ σοί. Некоторые [Wallace, 1996, 149–151] видят в нем греческие корни и так называемый Dativus possessivus, то есть дательный при-надлежности12, который дает несколько вариантов перевода13. Другие [Kulandaisamy, 2006, 60–61; Алфеев, 2018, 83] усматривают в этой фразе еврейские языковые особенности, тем самым относя ее к разряду семитизмов.
Что мне и тебе? (ַמ־ ִלּי וָָל ְך ) в книгах Ветхого Завета
Действительно, эта конструкция несколько раз встречается в книгах Ветхого Завета и, вне всяких сомнений, является семитизмом. С теми или иными отличиями эта фраза, если отобразить ее схематично, выглядит следующим образом:
מל □ ול□ — то есть вопросительная частица מ (что?) плюс два предлога ל с местоименными суффиксами14 (которые выражают личные местоимения в разных формах), разделенных союзом ו (и). Рассмотрим внимательнее примеры ветхозаветных отрывков, в которых встречается еврейская идиома 15 ַמ־ ִלּי וָָל ְך (и подобные ей), и попытаемся определить ее внутреннее содержание.
– Как резкий упрек эту фразу можно рассматривать только в истории пророка Елисея. «Что мне и тебе?» — пренебрежительно отстраняется Елисей от царя Израильского Иорама, желающего «вопросить Господа через него» (4 Цар 3:13).
– Нейтрально, хотя и весьма напряженно, этот оборот звучит в нескольких сюжетах. Первый из них связан с историей судьи Иеффая. «Что тебе до меня?»16 — обращается Иеффай через своих послов к пришедшему войной на Израиль царю Аммо-нитскому (Суд 11:12). Другой сюжет, в котором также нарастает опасение военного столкновения, связан с именем царя Иосии. «Что мне и тебе, царь Иудейский?» — обращается через послов египетский царь Нехао к царю Иосии (2 Пар 35:21). Еще один сюжет — это история царя Давида, в которой он отклоняет желание Авессы умертвить некогда злословившего их Семея, вопрошая: «Что мне и вам17, сыны Саруины?» (2 Цар 19:22)18. Конечно, с оценкой в данных сюжетах этой еврейской идиомы как нейтральной можно поспорить. Тем более что существуют и другие мнения относительно некоторых ветхозаветных отрывков19. Однако нет каких-либо четких критериев, однозначно указывающих на то или иное их понимание. И поэтому определение значения, по большей части, относится к области интуиции комментатора и зависит от его внутренних психологических предпочтений.
– Смиренное уважение, сопряженное с терпением испытаний (страданий), эта еврейская идиома выражает в двух ветхозаветных сюжетах. «Что мне и тебе, человек Божий», — с некоей досадой обращается к пророку Илии соманитянка, потерявшая сына (3 Цар 17:18). В истории царя Давида, страдающего от предательства собственного сына, сам царь останавливает Авессу, желающего умертвить обидчика Семея, злословящего их и кидающего в них камни. «Что мне и вам, сыны Саруины?» — говорит Давид и поясняет поступок обидчика тем, что «Господь повелел ему злословить Давида» (2 Цар 16:10). Глубокое осознание бессилия перед непостижимыми судами Божиими, перед Его волей. Вопль многострадального Иова, как будто адресатом обращения имплицитно является Сам Бог. Так можно охарактеризовать внутреннее содержание еврейской идиомы в данном контексте.
Это понимание наилучшим образом вписывается в тематический контекст евангельской истории Ин, в которой от сюжета к сюжету наблюдается постепенное следование Иисуса Христа на страдания20. Может ли фраза τί ἐμοὶ καὶ σοί выражать глубину трагизма неумолимо приближающихся страданий, страданий, неизбежность которых все более и более нарастает? Вопрос, конечно, риторический. Совокупность представленных выше примеров убеждает нас в том, что смысловое содержание идиомы τί ἐμοὶ καὶ σοί неоднозначно и напрямую зависит от контекста, то есть может иметь как отрицательные, так и положительные коннотации.
Теперь проанализируем вторую часть фразы — обращение «Жено» (γύναι), которое, если понимать начало фразы как резкий упрек, только усиливает его.
Жено (γύναι)21 в книгах Нового Завета
Для начала рассмотрим ближайший контекст, а именно Евангелие от Иоанна. Кроме интересующего нас стиха обращение γύναι употребляется еще в пяти случаях (4:21, 8:10, 19:26, 20:13, 15). В Ин 20:13, 15 γύναι обращено к скорбящей из-за потери своего Учителя Марии Магдалине. «Женщина, почему ты плачешь?» — спрашивают Марию вначале ангелы (20:13), а затем и Сам Господь (20:15). Обращение, как видно, исполнено состраданием, желанием утешить. То есть значение греч. γύναι (как минимум в данном сюжете) несколько отличается от русского обращения женщина (хотя и русское «женщина» во многом зависит от интонации). Еще более явно это отличие видно в Ин 19:26. Причем адресатом обращения, как и в Ин 2:4, является также Богоматерь. Страдающий от избиений и оплеваний Христос с креста говорит Своей Матери: «Жено! се, сын Твой», и после говорит ученику: «се, Матерь твоя!» (Ин 19:26–27). Сюжетная особенность данного эпизода, трагизм ситуации никак не позволяет оценить греч. γύναι как негативное. Наоборот, если вспомнить одно из значений еврейской идиомы τί ἐμοὶ καὶ σοί — некий экзистенциальный крик, то обращение γύναι только усиливает эту трагическую напряженность. И два сюжета (брак в Кане и голгофские события) сближаются не только терминологически, но и логически. В сюжете, рассказывающем о чуде на браке в Кане, мы действительно можем видеть предзнаменование страданий22. Более того, учитывая особенности еврейской словесности, а именно библейский параллелизм23, которым просто пестрит Ин, всё то, что следует после обращения γύναι, можно считать отчасти последующим раскрытием этого слова. Если попытаться отобразить на русский язык эту фразу, она будет выглядеть следующим образом: «Мама, теперь он сын Твой, а Она теперь Матерь твоя» (Ин 19:26–27). Таким образом, понимание γύναι как мать раскрывается (развертывается) в последующим параллелизме.
Нет необходимости подробно останавливаться на других примерах новозаветных книг, в которых употребляется выражение γύναι. Лишь обзорно можно сказать, что значение этого слова варьируется от нейтрального (Лк 13:12; Ин 4:21, 8:10) до почтительного и возвышенного (Мф 15:28).
Женщина (γύναι) в книгах Ветхого Завета24
Впервые обращение γύναι встречается в книге Иудифи (Иудифь 11:1). Особого внимания заслуживают два других ветхозаветных фрагмента. Оба они находятся в Четвертой книге Маккавеев25, и оба имеют весьма возвышенный тон.
«О, единственная жена (γύναι), породившая благочестие полное!»26 — восхваляет автор книги мужество и благочестие матери, видевшей невыносимые страдания своих сыновей (4 Мак 15:17). «О, матерь (μήτηρ), за благочестие Божественное воинствовавшая! [о старица! о женщина (γύναι)!]27 твердостию победила мучителя, и словами и делами оказалась сильнее мужа!» — продолжает прославлять автор подвиг матери семи сыновей-мучеников (4 Мак 16:14). Если продолжать цитирование, можно заметить, что автор 4-й книги о Маккавеях, в сущности, синонимично употребляет термины γύναι и μήτηρ («мать»). И действительно, на протяжении всей книги, начиная с 15-й главы, автор восхваляет матерь (μήτηρ) (4 Мак 15:2, 4, 6, 12, 14, 16), но в какой-то момент обращается к ней возвышенно γύναι (4 Мак 15:17), далее вновь ставит в пример подвиг матери (μήτηρ) (4 Мак 15:24, 25, 29), и вновь называет ее почтенно γύναι (4 Мак 16:1, 14). Также можно отметить, что возвышенный характер обращения γύναι наличествует не только в христианских, но и в нехристианских источниках28.
Теперь обратимся к различным версиям переводов интересующего нас стиха Ин 2:4 и рассмотрим вариативность его передачи, сосредоточив свое внимание только на некоторых.
Стих ин 2:4 в различных переводах29
Уместно было бы рассмотреть варианты переводов, предварительно распределив их на два типа: буквальный и идиоматический (то есть смысловой). Однако, учитывая то, что идиоматический подход к передаче Ин 2:4 приводит к различным результатам (вплоть до диаметрально противоположных), возьмем иную классификацию, категории которой будут соответствовать не типу перевода, а внутреннему содержанию интересующего нас стиха.
– Отстраненность и резкий упрек. Господь укоряет Свою Мать, как бы отмежевываясь от Нее. Такое значение дают следующие переводы: РБО (1823)30, В. А. Жуков-ского31, РБО (1997, А. А. Алексеев)32, В. Н. Кузнецовой33, свящ. Леонида Лутковского34 и другие.
– Двусмысленность. Прочтение стиха зависит в определенной степени от психологических предпочтений и религиозно-ориентированной пресуппозиции читателя. Такое прочтение характерно, как правило, для буквальных переводов; наиболее буквальным из дающих этот смысл переводов можно считать перевод еп. Кассиана35.
Также к этой категории относятся переводы К. П. Победоносцева36 и Синодальный37, хотя передача греч. γύναι русским Жено есть, в сущности, интерпретация, отчасти снижающая негативный вариант прочтения.
– Учтивость и возвышенность тона. Возвышенный тон читается в переводе М. П. Кулакова: «Должно ли это беспокоить нас, о женщина?»38 — передает переводчик, параллельно указывая на семитские корни греческой конструкции τί ἐμοὶ καὶ σοί. Однако греч. γύναι переводит русским женщина, хотя и с восклицанием «о!». Другой, наиболее интересный вариант дает перевод Давида Стерна. «Мама, почему меня или тебя это должно беспокоить?»39 — предлагает оригинальное чтение переводчик и в комментариях поясняет свой выбор. Так же, как и в предыдущем случае, Давид Стерн отмечает семитизм [Стерн, 2004, 234]. Но это не главное. Главное то, что он предлагает альтернативное значение греч. γύναι. Вот как он объясняет такое решение: «Греческое γύνη означает женщина, но в греческом языке обращение Γύναι не будет звучать так же холодно, как наше Женщина. Поэтому я перевел его как мама» [Стерн, 2004, 234]40.
Этот краткий обзор различных переводов показывает, что единомыслия среди переводчиков по данному вопросу нет. И то и другое прочтение (упрек и учтивость) имеет своих защитников среди переводчиков. Как бы в стороне отстоят переводы «нейтральные», то есть сохраняющие неоднозначность и призывающие читателя определиться самостоятельно. Тем не менее для нас важно, что существуют варианты позитивного прочтения Ин 2:4, причем эти переводы нельзя назвать догматически-ориентированными и обвинить их в предвзятости (конечно, речь идет только о переводе Ин 2:4). Прежде чем перейти к выводам, поставим некоторые вопросы, ответы на которые помогут сделать общие выводы относительно брачного сюжета в Кане.
оставшиеся вопросы
Вопрос, собственно, заключается в следующем. Обращение Богоматери к Иисусу с просьбой о вине: «вина нет у них» (Ин 2:3), подразумевает Ее осведомленность о чудотворной силе Сына. Но откуда Дева Мария знала о возможностях Сына, если начало чудесным событиям еще не было «положено» (Ин 2:11)? Для ответа на этот вопрос нам необходимо будет выйти за границы, собственно, Иоанновского Благовестия и обратить свое внимание на немногочисленные, но чрезвычайно важные свидетельства синоптических Евангелий41.
Для начала42 вспомним те чудесные события, которыми была наполнена жизнь Богородицы до этого момента, то есть до выхода Иисуса Христа на общественное служение. Здесь и чудесное явление ангела, благовествующего рождение Сына, и, конечно, само зачатие и рождение (Мф 1:18, Лк 1:26–38); свидетельство пастухов (Лк 2:8–20); пророчество Симеона и Анны (Лк 2:25–38); рассказ о путешествии Святого семейства в Иерусалимский храм (Лк 2:41–52), в особенности слова Отрока Иисуса о Своем Богосыновстве (Лк 2:49); и (возможно?) многое другое, по крайней мере, неявное, таинственное, что не отражено в священных текстах. И потому можно с полной уверенностью утверждать, что Мария глубоко осознавала уникальность Своего Сына, была убеждена в мессианском содержании Его служения.
Но вернемся на более твердую почву научной аргументации и отметим для себя, что все суждения относительно того, могла или не могла что-либо знать Мария о мессианском служении Своего Сына, хотя и выглядят спекулятивными, тем не менее органично вписываются в тематический контекст четвертого Евангелия, то есть соответствуют цели написания, или, по-другому, авторскому замыслу Ин.
Если не искать иной цели написания Ин, кроме той, которую указывает сам евангелист (Ин 20:31), то становится очевидным, что именно уверению своих читателей подчинено все повествование Евангелия. Вера (или неверие) в Иисуса как Христа, Сына Божия, оказывается неким маркером, окрашивающим в черно-белые тона (или, говоря категориями самого евангелиста, — в цвета света и тьмы) всех участников Священной истории Ин и всех потенциальных читателей.
Вера является одним из ключевых понятий Ин (86 случаев использования глагола πιστεύω в Ин против девяти в Мф, 14 — в Мк, и девяти в Лк, учитывая, что Ин — не самое большое по объему Евангелие). Вера, как наличный опыт, включена евангелистом в контекст причинно-следственных связей. Вера возникает вследствие чуда или От-кровения43. О вере Божией Матери ничего не сказано, и остается только догадываться, были у Нее основания или нет считать Своего Сына Мессией и обращаться к Нему с просьбой о чуде. Всего дважды Богородица появится на страницах Евангелия от Иоанна. Следующий эпизод с участием Девы Марии будет связан с Голгофой. Таким образом, еще до начала чудотворений (Ин 2:5) Мария верит в возможности Своего Сына, и Она же, в отличие от учеников, видевших знамения и чудеса, стоит у подножия Креста (Ин 19:25–27). Может ли в данном случае вера Марии в некотором смысле соотноситься с верой учеников, быть образцом в сравнении с ней? Может ли блаженство, которое обещает Христос не видевшим и уверовавшим (Ин 20:29), подразумевать в первую очередь Деву Марию44? Думается, это не исключено, хотя и не является бесспорным.
Однако перенесемся в начало истории Ин, к эпизоду первого чуда в Кане. Остается еще вопрос: почему именно сейчас Богородица обращается с просьбой о чуде? И при этом о чуде, связанном с вином? То есть вопрос относится ко времени совершения чуда и к его содержанию. Ответить на него нам помогут ветхозаветные пророчества, а также эпизод, непосредственно предшествующий сюжету в Кане Галилейской.
Мессианская эра в ветхозаветных пророчествах очень часто сопровождается обилием вина (Ис 25:6; Иоил 2:19–24, 3:18; Ам 9:13), которое, как таковое, является символом радости [Прокопчук, 2015, 30]. Мария, с самого рождения Божественного Младенца «сохранявшая в сердце Своем» (Лк 2:19, 51) чудесные свидетельства о Сыне, по всей вероятности, уже знала и о событиях на Иордане (свидетельство Иоанна Крестителя, Ин 1:19–34), и о случае с Нафанаилом (о мессианском наречении Иисуса, Ин 1:45–51). То есть Она понимала, что наступил некий переломный момент в Их жизни (ибо и Ей Самой оружие должно пройти душу, Лк 2:35), наступает «час» мессианского служения, которое в ветхозаветной символике, хорошо понятной Богородице, сопряжено с обилием вина. Но мессианское служение таит в себе и страдания. Таким образом, просьба о вине есть, в каком-то смысле, одновременно и согласие на следование по пути страданий, по пути, который должен открыться и уже открывается.
выводы
Обобщая представленные выше размышления, подведем итоги. Несмотря на многочисленные святоотеческие свидетельства, можно с полной уверенностью утверждать, что греческий оборот τί ἐμοὶ καὶ σοί, бесспорно имеющий семитские корни, не обязательно понимать в отрицательном значении, как упрек или резкий отказ. Ветхозаветные примеры употребления этого оборота лишь подтверждают этот тезис. Более того, некоторые примеры позволяют усматривать в нем, в зависимости от контекста, более глубокое значение. Смысловое содержание фразы τί ἐμοὶ καὶ σοί можно определить как осознание человеком Божественного действия, прозрение им Его Промысла и ощущение безысходности в обстоятельствах, предопределенных Богом. «Что мне и тебе» — это не вопрос, пусть даже и риторический (напр., «Какая нам разница?»), но глубинное молчание, немой крик, обращенный к Богу.
Греческое обращение γύναι (Voc.) среди всех возможных вариантов имеет и весьма возвышенное значение. Более того, определенный контекст позволяет расширить значение этого термина и передать его русским мама. Причем применительно не только к ветхозаветным текстам (4 Мак), но и к интересующему нас новозаветному отрывку (Ин 2:4). «Что нам, Мама?» — приблизительно так могла бы выглядеть фраза на русском. «Что это для нас, Мама, в сравнении с предстоящими страданиями?» — такой смысл добавляет последующая фраза о «часе» (Ин 2:4). Господь уже прозревает приближение Гефсимании и Голгофы.
Богородица, сохранявшая в сердце Своем таинственные события, связанные с Сыном, уже знает и о публичном свидетельстве Иоанна Крестителя на Иордане об Иисусе как о Мессии (Ин 1:19–34). Мария понимает, что мессианская эра, сопровождающаяся обилием вина (Иоил 3:18), уже наступает. Просьба о чуде (Ин 2:3), обращенная к Иисусу, подразумевает открытие пути страданий, пути, имеющего непосредственное отношение и к Ней Самой. Таким образом, просьба выражает одновременно и согласие. Далее следует то самое обращение Иисуса к Матери (Ин 2:4), которое можно понимать как молчаливое согласие на волю Отца. Однако конечной целью воли Отца является Голгофа, и в этом смысле «час еще не пришел» (Ин 2:4). Тем не менее, понятие «час» не имеет четкого временного значения, этот «час» составляет время от Каны до Голгофы. Или, лучше сказать, эти две хронологические точки являются границами единого «часа», его первой и шестидесятой минутой. Господь отвечает на просьбу Своей Матери так, что Она понимает Его и говорит служителям: «что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2:5). Тем самым подтверждает Свое согласие.
Чудо в Кане открывает путь страданий и перебрасывает смысловой мост к голгофским событиям. Это чудо становится началом череды чудес, каждое из которых приближает «час». Запущен обратный отсчет земного служения Иисуса Христа, период которого составляет «час», а часовыми метками являются чудеса. Последнее (в Иоанновской истории) чудо воскрешения четверодневного Лазаря станет роковым. Оно станет окончательной причиной, повлиявшей на решение синедриона убить Иисуса Христа, тем самым остановив историческую стрелку, сделавшую полный круг по циферблату Его земного служения.
Список литературы "Что мне и тебе, жено?" (Ин 2:4) - к вопросу об отношениях между господом Иисусом Христом и Девой Марией
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе / Под ред. М. П. Кулакова и М. М. Кулакова. М.: Изд-во ББИ, 2015.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание Московской Патриархии, 1990.
- Евангелие от Иоанна / пер. А. А. Алексеева // Евангелие от Марка. Евангелие от Иоанна. Послание к Римлянам. Апокалипсис. СПб.: ОБО, 1997.
- Еврейский Новый Завет, выполненный Давидом Стерном / Пер. с англ. М., 2011.
- Новая Женевская учебная Библия. Б. м.: Изд-во Свет на востоке, 1998.
- Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. В. А. Жуковского. Берлин, 1895.
- Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. еп. Кассиана (Безобразова). М.: РБО, 2001.
- Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа в новом русском переводе К. П. Победоносцева: Опыт к усовершенствованию перевода на русский язык священных книг Нового Завета. СПб.: Синодальная типография, 1906.
- Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа на церковно-славянском языке. Свято- Успенская Киево-Печерская Лавра, 2006.
- Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. СПб.: РБО, 1823.
- Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык / Под ред. А. А. Алексеева. СПб.: РБО, 2013.
- Христианское чтение № 4, 2020
- Перевод священника Леонида Лутковского. М.: Дружба народов, 1991.
- Подстрочный греческо-русский Новый Завет / Под ред. В. Р. Журомского. Житомир, 2005.
- Радостная Весть: Новый Завет в переводе с древнегреческого. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: РБО, 2007.
- Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.
- Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes / Edidit Alfred Rahlfs. Duo volumina in uno. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979. Творения отцов и учителей Церкви
- Августин, блж. О книге Бытия // Августин, блж. Творения. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 2000. Т. 2. С. 316-674.
- Августин, блаж. О согласии Евангелистов // Августин, блж. Творения. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 2000. Т. 2. С. 74-316.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери // Творения. М.: Паломник, 2002. Т. 4. С. 381-419.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. Поучение в Неделю Антипас- хи // Творения. М.: Паломник, 2002. Т. 4. С. 135-144.
- Григорий Великий Двоеслов, свт. Беседа 26, гово- ренная к народу в храме блаженного Иоанна, именуемом Константиновым, в неделю о Фоме // Беседы на Евангелия. М.: Сибирская Благозвонница, 2017.
- Григорий Нисский, свт. Трактат о том, что и сам Сын под- чинится Тому, Кто подчинил Себе всё (1 Кор. 15:24-28) / Пер. с греч. Ю. А. Шешко // Труды Киевской духовной академии. 2010. № 12. С. 93-125.
- Филарет (Гумилевский), свт. Учение Евангелиста Иоанна о Слове. Чернигов, 1869. 247 с.
- Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Право- славной веры. Кн. 3 // Иоанн Дамаскин, прп. Полное собрание творений. СПб., 1913. Т. 1. С. 157-345.
- Ефрем Сирин, прп. Слово на Преображе- ние // Ефрем Сирин, прп. Творения. М., 1993. Т. 2. С. 48-57.
- Ефрем Сирин, прп. Толкование на Четвероевангелие // Ефрем Сирин, прп. Творения. М.: Отчий дом, 1995. Т. 8. 357 с.
- Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова // Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб.: СПбДА, 1902. Т. 8. С. 5-604.
- Иоанн Златоуст, свт. Беседы на евангелие от Матфея. Беседа 28.2 // Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб.: СПбДА, 1901. Т. 7. 912 с.
- Ириней Лионский, сщмч. Обличения и опровержения лжеименного знания // Ириней Лионский, сщмч. Творения. СПб., 1900. Кн. 3. С. 219-316.
- Ириней Лионский, сщмч. Обличения и опровержения лжеименного знания // Ириней Лионский, сщмч. Творения. СПб., 1900. Кн. 4. С. 317-444.
- Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна // Кирилл Александрийский, свт. Творения. М., 2001. Кн. 2. С. 431-793.
- Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник: в 4 т. Т. 4: Толкование на Евангелие от Иоанна. 3-е изд. М.: Изд-во Сретен- ского монастыря, 2013.
- Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник: в 4 т. Т. 3: Толкование на Евангелие от Луки. 3-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 512 с. Теология 91
- Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник: в 4 т. Т. 2: Толкование на Евангелие от Марка. 3-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 208 с.
- Филарет (Дроздов), свт. Слово в Неделю о Фоме // Творения. Слова и речи. М., 2003. Т. 3.
- Фотий Константинопольский, свт. Амфило- хии / Пер. с греч. Д. Е. Афиногенова // Альфа и Омега. 1998. № 3(17). С. 56-80. литература
- Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. III: Чудеса Иисуса. М., 2017. 642 с.
- Иларион (Алфеев), митр. Евангелие от Иоанна. Исторический и богословский комментарий. М.: Издательский дом Познание, 2018. 640 с.
- Кассиан (Безобразов), еп. Толкование на Евангелие от Иоанна // Символ. 1995. № 34. С. 15-190.
- Булгаков С. Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения // Булгаков С. Н. Первообраз и образ: сочинения в двух томах. СПб.; М., 1999. Т. 1.
- Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь [Репринт 5-го издания 1899 г.]. М., 1991. 1370 с.
- Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. I. М., 1958. 1043 с.
- Десницкий А. С. Поэтика библейского параллелизма. М.: ББИ св. ап. Андрея, 2007. 554 с.
- Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002. 451 с.
- Михаил (Лузин), еп. Евангелие от Иоанна на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской Лавры, 1915. 586 с.
- Прокопчук Александр, прот. Лекции по Евангелию от Иоанна. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. 168 с.
- Стерн Д. Комментарий к Еврейскому Новому Завету / Пер. с англ. М., 2004. 1156 с.
- Порфирий (Успенский), еп. О Маккавеях слово 4-е // Труды Киевской духовной академии. 1873. № 11. С. 69-107.
- Флоровский Г., прот. Приснодева Богородица // Догмат и история / Сост. Е. Холмогоров; общ. ред. Е. Карманов; ред. В. Писляков; [предисл. Е. Холмогорова]. М.: Изд-во Св.-Владимир. братства, 1998. 487 с.
- Cassius D. Roman History. LI. London; New York. W. Heinemann; Harvard University Press, 1955. P. 2-77.
- Coogan M. D. The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha: New Revised Standard Version. New York: Oxford University Press, 2010. 2386 p.
- Kulandaisamy D. S. The first ‘Sign' of Jesus at the wedding at Cana. An Exegetical Study on the Function and Meaning of John 2.1-12 // Marianum. 2006. № 68.
- Wallace D. B. Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1996. 797 p.