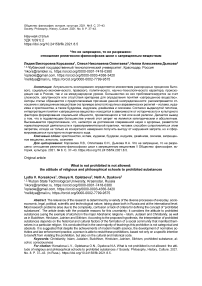Что не запрещено, то не разрешено: отношение религиозно-философских школ к запрещенным веществам
Автор: Корсакова Лидия Викторовна, Оплетаева Олеся Николаевна, Дьякова Нелли Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2021 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования определяется множеством разнородных процессов бытового, социально-экономического, правового, политического, научно-технологического характера, происходящих как в России, так и на международном уровне. Большинство из них проблематизируется за счет сложности, запутанности или отсутствия критериев для определения понятия «запрещенное вещество». Авторы статьи обращаются к предполагаемым причинам данной неопределенности: рассматривается отношение к запрещенным веществам (на примере алкоголя) крупных авраамических религий - ислама, иудаизма и христианства, а также буддизма, индуизма, джайнизма и сикхизма. Согласно выдвинутой гипотезе, интерпретация понятия «запрещенное вещество» находится в зависимости от исторического и культурного факторов формирования социальной общности, проявляющихся в той или иной религии. Делается вывод о том, что в подавляющем большинстве учений этот запрет не является категорическим и абсолютным. Высказывается предположение, что, несмотря на достижения современной науки о здоровье, развитости нормотворческой деятельности и правоприменительной практики, человек способен сопротивляться этим запретам, исходя не только из конкретного намерения получить выгоду от нарушения запрета, но и сформировавшегося культурно-исторического кода.
Христианство, ислам, иудаизм, буддизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, запрещенное вещество, алкоголь, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/149138704
IDR: 149138704 | УДК: 1(091):2 | DOI: 10.24158/fik.2021.8.5
Текст научной статьи Что не запрещено, то не разрешено: отношение религиозно-философских школ к запрещенным веществам
В обоснование актуальности данного исследования напомним лишь самые медийные случаи упоминания понятия «запрещенное вещество», чтобы стало понятно, о каких процессах идет речь, а также почему само это понятие невозможно определить в пределах, например, фармакологического или юридического дискурсов. Необходим широкий просветительский подход, разработанный в том числе на основе научно-философского анализа проблемы восприятия рассматриваемого понятия.
Прошло уже больше четырех лет после массового отравления жителей Иркутска «Боярышником». Так называлось средство для принятия ванн. «Люди его пили, игнорируя надпись о том, что этот продукт употреблять внутрь нельзя» [1]. Тогда из 123 отравившихся 76 скончались. В этом случае все более или менее понятно: на этикетке производителя написано, что нельзя употреблять, запрещено, а граждане игнорируют предупреждение, вкладывая в понятие «запрещенное вещество» иной смысл.
Отдельной историей являются случаи дрейфа ранее общедоступных веществ и препаратов в сторону запрещенных. Напомним в этой связи допинговые скандалы в спорте. Например, история Марии Шараповой, принимавшей на протяжении десяти лет совершенно легально мель-доний, пока Всемирное антидопинговое агентство не внесло его в список запрещенных, а сама спортсменка не подверглась дисквалификации. Или случаи дисквалификации одного спортсмена за прием препарата, на который у его соперников есть «терапевтическое разрешение».
Межведомственная неразбериха с регистрацией препарата для анестезии привела к появлению около трех десятков уголовных дел в отношении «ветеринаров-наркоторговцев». На тот момент, когда разворачивались события, препарат был изъят из Списка рекомендованных в ветеринарной практике и включен в Список психотропных веществ, запрещенных к обороту в РФ. В результате некоторые подозреваемые получили реальные и условные судимости.
Наконец, бурный рост технологий привел к появлению еще одной разновидности запрещенных веществ – синтетических, или дизайнерских, наркотиков, изготавливающихся из вполне «разрешенных» веществ, которые при соединении приобретают различные наркотические свойства. Как только препарат обнаруживается и включается в список запрещенных, в его формуле что-нибудь изменяется, появляется новая «жевательная смесь», «соль для ванны» и т. п., которые не запрещены.
Очевидно, что затронутая проблема в основном артикулируется в юридическом дискурсе и регулируется действующим законодательством. Из пояснений профильного отдела МВД РФ следует, что к запрещенным следует отнести все ядовитые и сильнодействующие вещества, имеющие какое-либо опасное воздействие на организм человека, в том числе наркотическое или психоактивное [2]. Также подчеркивается, что благодаря достижениям современной химии и фармакологии появилось множество (тысячи) новых веществ с подобными свойствами.
Описанные и многие другие явления актуализируют более общие, философские вопросы об отношении человека к проблеме запрета и его преодоления. В поисках ответов на них мы будем опираться на идеи и методологию, предложенные в рамках юнгианской теории архетипов и коллективного бессознательного, а также культурно-исторической психологии [3]. Механизмы формирования психики под влиянием культурно-исторической практики в отечественной традиции описаны в трудах Л.С. Выготского [4]. В соответствии с этими установками, возможный ключ к пониманию рассматриваемой проблемы лежит в анализе религиозных традиций формирования запретов на употребление определенных веществ. Психика человека обусловлена не только его биосоциальной средой, но и всей предшествующей культурно-исторической традицией, усваиваемой индивидом как осознанно, так и бессознательно, в процессе социализации.
Полезными для понимания культурно-исторического контекста, в котором религии формулируют предписания, регламентирующие употребление алкоголя, стали работы И.А. Спивака, И.Ш. Шифмана, О.Г. Большакова, П. Гвинна, Е.А. Торчинова, которые будут цитироваться далее. Отдельные главы исследования М. Монтанари проливают свет на практику винопития в Европе с эпохи античности до XIX столетия [5]. Широчайший охват рассмотрения практики потребления горячительных напитков и попыток правителей влиять на этот процесс можно найти в работе В. Лукьянова «Оружие для самоистребления» [6]. Эти историко-культурологические исследования в контексте настоящей работы дополняются философско-теоретическим анализом артикулированных в религиях ограничений на употребление алкоголя.
Мы обратимся к анализу «запретов» в религиях, отобрав для текущего этапа исследования самые многочисленные и распространенные. Это авраамические религии: ислам, иудаизм, христианство. Буддизм предполагается рассмотреть в контексте других религиозно-философских учений, зародившихся в регионе: джайнизм, индуизм, сикхизм. Такая выборка носит ограниченный характер, который в дальнейшей работе будет преодолен за счет привлечения в качестве материала исследования традиционных верований жителей Дальнего Востока, Латинской Аме- рики, Африки и др. При заявленном подходе плодотворным представляется рассмотрение регулирования практики употребления алкогольных напитков в цивилизациях Древнего мира. В рамках же настоящего исследования мы обратимся к мировым религиям, распространенным повсеместно, объединившим значительную часть населения земного шара, чтобы установить отличия, если они имеются, в подходе к запрещенным веществам, и то, как эти отличия укладываются в общий культурный контекст существования религии.
Отношение к алкоголю в исламе ранее уже изучалось. Не раз была отмечена его эволюция от принятия до полного и необратимого отказа [7]. Хронологической границей возникновения запрета считается хиджра. Исследователи выделяют несколько предполагаемых причин введения ограничений. Важно подчеркнуть, что с точки зрения исповедующих ислам единственной причиной воздержания является воля Аллаха, переданная Мухаммедом, т. е. исключительно сверхъестественная причина, абсолютно объективная, независимая от воли человека. Все рациональные причины выдвигаются учеными, не являющимися носителями исламского мировоззрения.
Так, А. Мюллер полагает, что винопитие, как и азартные игры, приводило к нарушению порядка в исламской общине и пренебрежению молитвой [8, с. 192]. Аналогичную точку зрения высказывает О.Г. Большаков, приводя в пример затяжную осаду, в ходе которой даже ближайшие сподвижники Мухаммеда начали злоупотреблять вином. Ученый описывает реальные исторические события, приведшие к появлению айатов о запрете винопития. Например, «О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите…» появился после того, как пьяный имам опустил отрицательную частицу во время произнесения слов «О неверные! Я не буду поклоняться тому, чему поклоняетесь вы» [9, с. 249]. Поэтому указ о запрете вина и игры интерпретируется, прежде всего, как способ поддержания общественного порядка. Несколько иной аспект представляют исследователи, связывающие запрет на опьяняющие напитки с кочевым образом жизни, наиболее угодным Всевышнему [10, с. 37]. Здесь данная запретительная мера приобретает более широкое социально-этическое значение.
Следующее усиление запрета на употребление алкоголя в исламе, имевшего сначала исключительно дисциплинарный характер, исследователи связывают с религиозной самоидентификацией мусульман. Винопитие вместе с рядом других способов времяпрепровождения должно быть исключено из образа жизни мусульманина, что не только ритуально отделит его от арабов-язычников, иудеев и христиан, но и даст ему моральное превосходство: «О вы, которые уверовали! Вино, майсир, жертвенники, стрелы - мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь же этого, -может быть, вы окажетесь счастливыми! Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсиром и отклонить вас от поминания Аллаха и от молитвы» [11, V 92 (90) - 93 (91)].
Что же касается использования в Причастии красного вина, то этот принципиальный выбор имеет своим основанием евангельское предание о Тайной вечере Спасителя (Лк. 24:30). Интересен своей категоричностью ответ православного священника на вопрос атеиста, нельзя ли поменять вино на виноградный сок хотя бы для детей. «Господь даровал Свое Тело и Кровь во спасение и просвещение душ. Это не символы, это именно так и есть. Потому и названо это Таинством, что под видом хлеба и вина мы причащаемся Тела и Крови Христовой... Для Причастия используется только красное виноградное вино от лозы, и ничем его заменить нельзя. Так установил Господь, таковы церковные правила» [15].
Совсем иное дело – зависимость и безмерное употребление вина. Вот наставления Иоанна Златоуста: «Вино дано для увеселения, а не для того, чтобы безобразить себя, дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем, дано для подкрепления здравия, а не для расстройства, для уврачевания немощей телесных, а не для ослабления духа. Бог тебя почтил сим даром, для чего же ты неумеренным употреблением сего дара бесчестишь себя?» [16].
В Священном Писании содержится множество обличений пьянства и пьяниц. Этот порок ставится в один ряд с мужеложством и скотоложством, убийствами, идолопоклонничеством. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10). «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению» (1 Пет. 4:3).
В святоотеческой литературе находится объяснение связи пьянства со всеми остальными грехами: безмерное потребление алкоголя замутняет разум, ослабляет контроль и самокритику, отвращает от веры. Человек становится способен к совершению самых скверных действий: пьянство делает человека хуже мертвого. «Ибо этот бывает равно бездействен и по отношению к добру, и по отношению ко злу, а тот по отношению к добру бездействен, но по отношению ко злу более прежнего деятелен» [17].
Самый сокрушительный аргумент христиан против пьянства состоит в том, что не Господь делает человека пьющим или непьющим: человек наделен свободной волей, поэтому прекратить пить может только он сам с помощью Божией, обратившись к Богу. Однако дух алкоголика поражен страшнейшим грехом – гордыней, своеволием, мешающим ему видеть себя со стороны, воспринимать контроль со стороны других людей и замысел Бога. Фундаментальным библейским заветом является требование сохранить в неприкосновенности, чистоте все, сотворенное Богом: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3:16–17). Пьянствуя, человек не только губит свое здоровье и нарушает общественный порядок, но и разоряет храм Божий. Расплата пьяницы за своеволие страшна – он никогда не войдет в Царствие небесное.
Продолжительная история христианства показала, что, несмотря на угрозу всеми муками ада, многие люди оказываются во власти порока. На рубеже XIX–XX вв. появляются несколько течений, регламентирующих процессы продажи и потребления спиртных напитков. Традиционной точки зрения о полезности умеренного потребления алкоголя придерживаются представители moderationism . А последователи abstentionism , так называемые трезвенники, призывают воздерживаются от питья, считая, что полное воздержание от выпивки – это мудрейший способ жить в современном мире.
Таким образом, христианство строится на идее внутреннего самоконтроля и ответственности: нет ничего дурного в веществе, не оно находится под запретом, а то состояние «замутненного разума», которое становится следствием злоупотребления.
Далее мы рассмотрим еще одну мировую религию – буддизм, а также религиозно-философские учения, составляющие его культурно-исторический контекст. Отношение к проблеме запрещенных веществ выражено в седьмом элементе Восьмеричного пути спасения и сконцентрировано в пятой из «Пяти заповедей», предназначенных для верующих буддистов-мирян. Речь идет о требовании смрити. На русский язык этот концепт переводят обычно как осознанность . Однако в буддизме осознанность трактуется с учетом трех аспектов: во-первых, это смрити – состояние, когда мы присутствуем в нашем действительном переживании, в противоположность отвлечению или рассеянности; во-вторых, это сампраджня, т. е. осознание своих целей и того, что ты делаешь для их достижения; наконец, апрамада, что означает бдительность, необходимую для совершенствования своих мыслей, речи и поведения [18]. То, что в учении о Восьмеричном пути спасения сформулировано в виде широкого требования осознанности, в пятой заповеди приобретает форму весьма однозначного запрета: «Не употреблять пьянящие напитки». Вот как П. Гвинн комментирует эту связь: «Наконец, пятая заповедь фокусируется на потребности в ясности ума, что является важной частью буддийских поисков мудрости через познание и медитацию. Следовательно, все формы алкоголя, наркотиков и другие опьяняющие вещества, которые могут омрачить разум и понизить ответственность, считаются неприемлемыми. Этот запрет также распространяется на поверхностные, примитивные и вызывающие привыкание виды развлечений. Эта заповедь, направленная против пагубных последствий алкоголя, идет дальше, чем его индуистский аналог. Вместо того чтобы просто предостеречь от пьянства, буддийский идеал состоит в том, чтобы вообще избегать алкоголя и отупляющих ум наркотиков и действий. Речь идет даже не о чрезмерном употреблении алкоголя: лучше вообще не пить» [19, p. 81].
Что касается буддистской йоги, Ваджраяны, являющейся одним из направлений Махаяны, распространенной в России, Японии, Непале и других странах, ее последователи придерживаются точки зрения, что алкоголь не властен над ними, они хозяева своего тела и разума, поэтому употреблять алкогольные напитки за стенами храма или нет, решают сами йоги. В практике Ваджраяны есть очень своеобразный способ тренировки осознанности, которую интересно интерпретирует Е.А. Торчинов: используя мотивы греховного, преступного и ужасного в положительном смысле, Ваджраяна «прямо начинала работать с мрачными пучинами подсознательного и бессознательного, используя его безумные сюрреалистические образы для быстрого выкорчевывания самих корней аффектов: страстей, влечений (порой патологических), привязанностей, которые могли и не осознаваться самим практикующим» [20, с. 270–271]. По мысли ученого, йо-гин таким способом стремится к высвобождению импульсов зла «не для культивации, а для освобождения от них через их осознание и трансформацию» [21]. Наконец, важно принимать во внимание, что подобная практика и, в частности, призыв к употреблению табуированных веществ имеет под собой символическую, или, как пишет Е.А. Торчинов, высокознаковую, семиотическую основу. По сути, это совсем не означает необходимости кровосмешения, отцеубийства, пьянства и т. п., а является психофизической техникой преодоления пороков.
Такой глубокий буддийский запрет на употребление запрещенных веществ, сопряженный с принципом чистоты сознания, осознанности, присутствия здесь и сейчас, в целом поддерживается в джайнизме и индуизме, хотя и артикулируется по-другому.
Запрет на алкоголь в джайнизме вызван необходимостью следовать ахимсе – не причинять живому существу любого рода вреда, дабы освободиться от скверны и отчистить карму. Поскольку процесс изготовления алкоголя связан с брожением либо ферментацией, т. е. действием микроорганизмов, эти напитки не являются вегетарианскими. Простое и понятное объяснение категорического запрета на само вещество. О вызываемых состояниях и социальных последствиях нет даже и речи. Если правильно оценить требование ахимса, то становится понятно, что запрет на одурманивающие вещества носит радикальный характер.
Индуизм – очень многоплановое религиозно-философское образование. Если обобщить имеющиеся рекомендации по употреблению запрещенных веществ, можно сказать следующее. Во-первых, в индуизме нет четкого запрета на алкоголь, более того, П. Гвинн отмечает следующее: «Фактически, в Ведах часто упоминается ритуальный напиток, известный как сома , чьи опьяняющие эффекты вызывали измененные состояния сознания» [22]. Во-вторых, там, где буддистский запрет на интоксиканты вызван соблюдением ахимса и смрити, индуистские ограничения на потребление алкоголя и определенных видов пищи связаны исключительно с социальноэтической проблематикой: решающее значение для мокши и кармы индуиста имеет не только, из чего приготовлено, но и то, где, когда и с кем человек ел и выпивал, а также кто приготовил еду и разлил напитки. «Разделить трапезу – это не просто есть и пить в одно и то же время и в одном месте. Ужин с другим человеком имеет много самых разнообразных социальных последствий» [23]. Учитывая сохранившуюся по настоящий момент стройность сословно-кастового деления индийского общества, можно сказать, что описанное положение дел хоть извне, но довольно строго регламентирует процесс потребления запрещенных веществ.
Сикхизм является одной из самых молодых религий в мире. Употребление алкоголя не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ясное распоряжение, данное в священной книге «Гуру Грантх Сахиб», запрещает употребление всяких токсических веществ кем-либо из сикхов. Поскольку это относительно молодое учение, распоряжения, касающиеся «запрещенных веществ», опираются не только на веру, но и на науку – алкоголь негативно воздействует на все наше тело, разрушая его. Вот такого рода наставлениям следуют исповедующие сикхизм: «Кто-то предлагает вино и другой наливает его сам; это делает его спятившим и бесчувственным и лишает всякого размышления. Затем человек не может различить между своим и чьим-то еще и проклинается Богом. Выпивая это, человек отвергает своего Повелителя и наказывается во Дворе Господина. Да, не пейте это ошибочное вино, ни в каких обстоятельствах». «Все, кто употребляют пунш, рыбу и вино; какие бы паломничества, соблюдения поста и ежедневные обеты они ни выполняли, они все пойдут в ад» [24].
Резюмируя изложенное, отметим следующее. В большинстве религиозно-философских практик нет прямого запрета на употребление веществ, изменяющих состояние сознания. Можно предположить, что ими принимаются во внимание позитивные явления, вызываемые этими веществами в организме, как физические, так и эмоциональные. Однако подавление воли и, как следствие, утрата контроля и меры в употреблении влекут много негативных явлений, деструктивных для социальности. Поэтому ни одна из религий не умалчивает о вреде подобных пристрастий. Некоторые не дают человеку свободы выбора, артикулируя прямой запрет на само вещество. Другие окольным путем – не запрещая сами вещества, но запрещая состояния, вызываемые ими. В конечном итоге принятие решения и ответственность за последствия лежит на самом человеке. Наследуя подобные культурные коды неоднозначности и условности в запрете на алкоголь, современный человек «благодаря» научно-технологическим достижениям в изготовлении веществ, «похищающих разум», дающих мнимую свободу духа, расширяющих границы физических возможностей, оказывается в ситуации еще большей неопределенности. Отличить, что можно, когда можно , от того, что нельзя никогда, призваны наука и законы. Однако и эти достижения современной человеческой цивилизации фундированы культурно-исторической традицией.
Список литературы Что не запрещено, то не разрешено: отношение религиозно-философских школ к запрещенным веществам
- Галеева Д. «Боярышнику» три года. В Приангарье все еще находят жидкости с метанолом? [Электронный ресурс] // Аргументы и Факты. Иркутск. 18.12.2019. URL: https://irk.aif.ru/society/boyaryshniku_tri_goda_v_prian-gare_vsyo_eshchyo_nahodyat_zhidkosti_s_metanolom (дата обращения: 08.08.2021).
- Проблемы борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, содержащихся в анаболических стероидах [Электронный ресурс] // МВД России. URL: http://pda.ormvd.ru/pubs (дата обращения: 10.07.2021).
- Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / пер. с англ. М., 1997. 432 с.; Юнг К. Сознание и бессознательное / пер. с англ. СПб., 1997. 544 с.
- Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Выготский Л.С. Психология. М., 2000. С. 512-756.
- Монтанари М. Голод и изобилие. История питания в Европе. СПб., 2018. 288 с.
- Лукьянов В. Оружие для самоистребления [Электронный ресурс] // Нет наркотикам: информационно-публицистический ресурс. 25.11.2003. URL: http://www.narkotiki.ru/5_5692.htm (дата обращения: 08.08.2021).
- Спивак И.А. О запрете винопития в исламе // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. 2016. № 2. С. 101-112.
- Мюллер А. История ислама: от доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов. М., 2004. 911 с.
- Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1 : Ислам в Аравии (570-633). М., 1989. 312 с.
- Шифман И.Ш. О некоторых установлениях раннего ислама // Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984. С. 36-43.
- Коран / пер. И.Ю. Крачковского. Баку, 1990. 744 с.
- Иудаизм. Суббота и праздники [Электронный ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. URL: https://eleven.co.il/judaism/sabbath-and-holidays (дата обращения: 08.08.2021).
- Шломо Ганцфрид. Кицур Шульхан Арух. С приложением заповедей, действующих в земле Израиля / пер. с иврита О.А. Кугукова. М., 1999.
- Святитель Иоанн Златоуст. Избранные беседы. М., 2020. 864 с.
- Духовная жизнь. Таинства церкви [Электронный ресурс] // Русская вера. URL: https://ruvera.ru/vopros/prichastie_vino (дата обращения: 08.08.2021).
- Святитель Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 102.
- Там же. С. 466.
- Исследуя буддийскую практику: нравственность, медитация и мудрость [Электронный ресурс] // Буддаяна. Путь Будды. URL: https://buddhayana.ru/tl_files/pdf/foundation_study/02_week06.pdf (дата обращения: 08.08.2021).
- Gwynne P. World religions in practice: A comparative introduction. Hoboken, 2017. 364 р.
- Тоpчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и тpанспеpсональные состояния. СПб., 1998. 384 с.
- Там же. С. 278.
- Gwynne P. Ор. cit. P. 204.
- Ibid. P. 189.
- Siri Guru Granth Sahib [Электронный ресурс] // Deutsches Informationszentrum für Sikh Religion. URL: https://www.deutsches-informationszentrum-sikhreligion.de/SiriGuruGranthSahib_de.php/ (дата обращения: 08.08.2021).