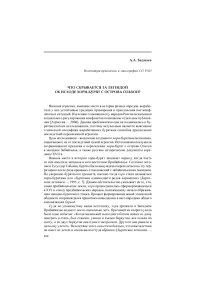Что скрывается за легендой об исходе хори-бурят с острова Ольхон?
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIX, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522006
IDR: 14522006
Текст статьи Что скрывается за легендой об исходе хори-бурят с острова Ольхон?
Явления агрессии, имевшие место в истории разных народов, выработали у них устойчивые традиции примирения и преодоления постконфликтных ситуаций. Изучению сложившихся у народов России механизмов социального регулирования конфликтов посвящены отдельные публикации [Агрессия…, 2006]. Данная проблематика еще не поднималась в бу-рятоведческих исследованиях, поэтому актуальным является выяснение этнической специфики выработанных бурятами способов преодоления последствий перенесенной агрессии.
Цель исследования – выделение созданного хори-бурятами механизма, защитившего их от последствий чужой агрессии. Источниками послужили сохранившиеся предания о переселении хори-бурят с острова Ольхон в западное Забайкалье, а также русские исторические документы середины XVII в.
Важное место в истории хори-бурят занимает период, когда часть из них населяла западное и юго-восточное Прибайкалье. Согласно летописи Тугулдэр Тобоева, буряты были вынуждены переселиться на эту территорию после ряда кровавых столкновений с забайкальскими эвенками. По уверению бурятского хрониста, именно тогда хори стали называться хори-бурятами или «бурятами одиннадцати родов хоринских» [Бурятские летописи…, 1995, с. 7]. Данное обстоятельство указывает на то, что, заняв прибайкальские земли, хори присоединились сформировавшемуся в XVI в. союзу предбайкальских народов, положившему начало образованию западно-бурятского этноса. Процесс формирования новой этнической общности сопровождался принятием вошедшими в него народами общего самоназвания буряад .
Судя по упомянутому выше источнику, хори прожили в Западном Прибайкалье недолго: всего «несколько лет». Причиной их скорого ухода было одно событие: «Когда маленький сын одного богача пошел из дому поиграть в степь, был схвачен, унесен и съеден беркутом, все пошли на охоту, и из двух беркутов они одного застрелили. Другого они ранили и дали ему улететь. Вследствие этого они стали бояться, что впоследствии он поест их детей, и откочевали оттуда обратно» [Бурятские летописи…, 400
1995, с. 7]. В другом источнике вместо мальчика жертва крылатых хищников – маленькая девочка.
Иную трактовку миграции хори-бурят с Ольхона дает И.Е. Тугутов в предании «Потомки Ногто и Нимхэ» (ГАРБ. Фр. 433. Оп. 1. Д. 20). Заметим, что главные герои, братья Ногто и Нимхэ из Гучитского рода, представлены как пятое поколение насельников Ольхона (первопоселенцем назван их предок Хуухэн, затем следуют его сын Шэрэн, внук Ананда, правнук Бавалдай и праправнук Одоосхой, являвшийся отцом легендарных братьев). Получается, что хори-буряты обитали там почти полтора столетия. Побудительной причиной исхода хори опять-таки названы орлы, которые, унося и поедая молодняк, изводили домашний скот бурят. Здесь, как видим, речь не идет о боязни мести хищных птиц, а объяснение более прозаично – желание скотоводов сохранить в целостности стадо.
Остановимся на выяснении возможности возникновения тех ситуаций, которые описаны в названных сочинениях.
Обитающие на Ольхоне т.н. «орлы» относятся к белоголовым орлам-могильникам (императорским орлам), беркутам и орланам-белохвостам. Из них на овец могут нападать только беркуты. Другими словами, почва для изложенных в предании событий в принципе была.
Важным фактором, который мог повлиять на переселение хори-бурят, были традиционные воззрения об этой хищной птице. Согласно им, орел считался священным существом, а императорский орел почитался как сын одного из грозных небожителей – мифического хозяина Ольхона. По представлениям бурят, орлы-сыновья хозяина Ольхона дали начало известным шаманским родам. Полагали также, что, однажды попробовав мясо убитого орлом животного, человек мог обрести шаманский дар (РГАДА. Ф. 24, Д. 70. Л. 5–5 об.). Подобно чтимому хори-бурятами и другими бурятами лебедю, парившей в небе хищной птице возносилась обязательная жертва молоком или чаем. Из-за суеверия хори-буряты страшились гнева божественного хозяина Ольхона, посланцами которого считались крылатые хищники. Это могло побудить их на перекочевку.
Однако обращение к историческим источникам середины XVII в. показало, что на деле вовсе не угроза нападения орлов, воспринимаемая как ниспосланное божествами острова наказание, а реальные события тех лет подвигли хори покинуть обжитые места.
Историческая обстановка в 1640-х гг. в Предбайкалье характеризовалась продолжавшимся военным противостоянием предков-этносов западных бурят с русскими. Одним из эпизодов было присоединение Ольхона к русским владениям. Скупая информация об острове и его жителях содержится в донесении казачьего командира: «А ходу через Ламу (оз. Байкал. – А.Б. ) до острова Оихона (искаженная передача бурятского названия острова Ойhон. – А.Б. ) судового день. А люди на том острову живут братцкие многие, лошадей и всякого скота много, а хлеб у них родитца просо» [Сборник…, 1960, с. 36].
21 июня 1643 г. из Верхоленского острога был снаряжен отряд пятидесятника Ивана Курбатова. 2 июля казаки добрались до оз. Байкал и для переправы на остров построили струги. К этому времени к шерти были приведены обитавшие в Приольхонье хори-буряты во главе с «княз-цем» Обогондеем. Высадившись со своими людьми в середине сентября на Ольхоне, И. Курбатов потребовал от островитян принесения присяги царю и ясак, но получил отказ. Разгоревшееся сражение закончилось поражением хори-бурят. Победители захватили пленных и много скота, но в аманаты взять, как оказалось, было некого, т.к. «лутчие люди» успели уйти [Сборник…, 1960, с. 47–48].
В 1644 г. проживавшие в Приольхонье хори-буряты, несмотря на принесение ими шерти русскому монарху, вновь оказались под угрозой погрома со стороны верхоленских казаков и служилых. Правда, попытка застать их врасплох не увенчалась успехом. В документах осталось следующее объяснение неудачи: «И вечером улусы и братцких людей подсмотрели сами и изготовились на утро на удар, и к братцким людем ночью весть пала, а скот и живот весь увезли и испометали избы с войлоки» [Сборник…, 1960, с. 51]. Два дня продолжалось преследование, но догнать конных бурят так и не удалось.
Вероятно, именно после этих событий, показавших спонтанную агрессивность завоевателей, произошло переселение большинства хори-бурят с Ольхона на южный берег Байкала. Картину зимнего перехода хори-бурят через скованный льдом Байкал передает автор легенды о братьях Ногто и Нимхэ: «А лед между торосами был скользок, по нему не было ходу ни лошадям, ни коровам, ни овцам с козами. Тогда кочевники снимали с вьюков свои войлочные юрты и стелили на лед, чтобы по этому настилу прошел скот. Стоило пройти скотине по этому настилу, как кочевники передвигали войлок дальше, на новое место» (ГАРБ. ФР. 433. Оп. 1. Д. 20. Л. 9об.–10). Данную версию подтверждают дневниковые записи направлявшегося в 1675 г. в Китай русского посла Н.Г. Спафария, который написал следующее: «…и преж сего жили на том острову многие Братские иноземцы… а после того, как погромили их казаки, и с того острова разбежались, и ныне пуст» [Спафарий, 1882, с. 119].
Однако Б.О. Долгих считает, что только с 1685 г. хори-буряты стали уходить из западного Прибайкалья, а причиной тому послужили боевые столкновения с эхиритами [1960, с. 328]. Можно предположить, что в документах, на которые ссылается исследователь, фигурировали приольхонские хори-буряты, незатронутые миграцией раннего периода. После ухода основной массы хори-бурят на их место пришли эхириты и представители некоторых других этнических сообществ Предбайка-лья. Освоив опустевшие прибайкальские территории, они дали начало формированию таких этнотерриториальных групп, как ольхонские и кударинские буряты. Подвергаясь с запада давлению укреплявшихся в Предбайкалье русских, эхириты стремились расширить свой локус, продвигаясь на юг и юго-восток.
Почему же в памяти хори-бурят действительные события оказались забыты, а вместо них происходила трансляция от поколения к поколению сюжетов о лютых орлах? Ответ, вероятно, нужно искать не только в из- бирательности человеческой памяти, а в сознательном внедрении нейтральной (может быть, нейтрализующей) информации о событии, в действии механизма предохранения этническим сообществом психического здоровья будущих поколений, снятия с них негативного груза осознания себя жертвами чужой агрессии, который мог отравлять жизнь и омрачать межэтнические и внутриэтнические взаимоотношения. Заметим также, что далеко не всё скрывалось от истории и потомства. Скажем, такие трагические страницы, как бегство хори во главе с Балжин-хатун от монголов или столкновения с эвенками, в хронике Тугулдэр Тобоева подробно описаны. Надо полагать, что в данном случае действовал принцип наложения табу на упоминание тех или иных событий. Полученный вывод подтверждается материалом по предбайкальским бурятам, в фольклоре которых нет прямого указания на жестокий характер войн с русскими в 1630–1640-е гг. Известия об этом периоде истории просто отсутствуют.
Итак, рассмотрение версий легенды о переселении хори-бурят с острова Ольхон на южное побережье оз. Байкал подводит к мысли о существовании в прошлом в хори-бурятском (шире–бурятском) социуме механизмов преодоления синдрома страха после перенесения чужой агрессии путем замещения реального события фольклорными сюжетами и образами.